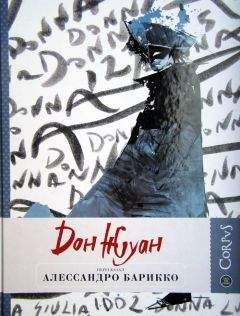Алессандро Барикко - Такая история
Зал мэрии заставили стульями. На дальней стене аккуратно, без единой складки, натянули простыню. Бортолацци, не будь дурак, решил устроить перед показом небольшое представление, объявив о распродаже его товара по сниженным ценам. Когда Последний вошел с друзьями в зал, Бортолацци жестом фокусника менял на подушке наволочку, попутно рассказывая что-то об английском хлопке. Дело он свое знал, но никто все равно ничего не купил — отчасти из принципа, но скорее потому, что не было денег, да и простыни люди не выбрасывали, даже после того, как на них умирали старики. Постирают хорошенько — и вперед.
Последний с друзьями протискивались между стульями в поисках свободных мест. Наконец пристроились на ящиках, поставленных в глубине зала по приказу мэра, — своеобразная галерка. Если оглянуться, можно было увидеть неподалеку стол из церкви, на котором стоял, сверкая эмалью, огромный аппарат; мужчина в шляпе сосредоточенно смазывал его маслом, как хирург во время операции. Последнему это очень понравилось, потому что напомнило его мотоциклет: тут были даже колеса, только располагались они как-то странно. Можно сказать, что проекционный аппарат был похож на мотоциклет после аварии. Собравшиеся радостно захлопали в ладоши, когда Бортолацци наконец решил свернуть торговлю и перейти к показу фильма. Он хотел было прочитать небольшую вступительную лекцию, начав с того, что кинематограф — это изобретение века, но его слова заглушил дружный свист. Все же он успел объявить, что некоторые сцены могут заставить сердца местных зрителей «мучительно сжиматься», после чего Последний и его друзья завыли от притворного страха, и многие в зале также стали подвывать. Бортолацци закончил тем, что рад видеть столько зрителей, и поблагодарил фирму «Белое крыло» за предоставленную возможность показать им фильм. Владельцем этой фирмы был не кто иной, как он сам. То, что последовало дальше, целиком и полностью соответствовало тогдашним представлениям о культуре в тех краях. Поднялся священник и прочитал вместе со всеми молитву на латыни во славу Богородицы. Благословил затем зал и экран. Все обнажили и склонили головы. Сумасшедший дом!
Свет еще не успели погасить, когда Последний увидел ее — самую прекрасную женщину из всех, кого он когда-либо встречал; ей заняли место, и она, извиняясь с очаровательной улыбкой, пробиралась к нему. Оставленный для нее свободный стул оказался прямо перед ящиком, на котором устроился Последний. Прежде чем сесть рядом с мужчиной, занявшим для нее место, она задержала взгляд на незнакомом пареньке — дело, конечно же, было в золотой тени — и, сама не зная почему, слегка кивнула ему и сказала: «Привет». Внутри у Последнего все похолодело, как будто в жилах не осталось ни капли крови. Женщина отвернулась и села. Едва заметным движением она сбросила с плеч шаль, позволив ей соскользнуть на спинку стула. На ней было платье, оставлявшее плечи и руки обнаженными, — в деревне о таком только слышали, но никогда не видели. Возникал вопрос, как же оно держится: без бретелек, без ничего. Последний не сразу позволил себе подумать про грудь, предположить, что все держится на ней. У него перехватило дыхание. Он попробовал смотреть по сторонам, чтобы прийти в себя, но взгляд сам по себе возвращался к тонкой шее, которую волосы, собранные на затылке, оставляли открытой, — само совершенство. Только несколько небрежно спадающих прядей приглушали ослепительное сияние. Последний почувствовал на губах тепло, которое эта кожа, казалось, может вернуть в ответ на легкое касание поцелуем. А когда выключили свет, он даже не услышал восторженного рева и аплодисментов, которыми зрители выражали свой восторг. И не поднял глаза, как все остальные, на простыню из запасов Бортолацци, оживленную картинами неожиданных миров. Мальчик не отрывал взгляда от темного силуэта, вырисовывавшегося на фоне экрана: от правого уха женщины вниз, вдоль шеи, потом немного вверх, вдоль плеча, и дальше вниз, к локтю, после чего исчезал в полумраке. Вот что должно было заставить сердце «мучительно сжиматься», и Последний тогда впервые понял, насколько мучительным может быть желание, если оно вызвано женским телом. Это даже испугало его. Возможно, поэтому он медленно, переводя взгляд вверх и вниз по темному контуру без единой неровности, принялся освобождать его от всего, что было в нем женского, приближаясь к потаенной красоте, где кожа становилась простой линией, а тело — выгравированным на мерцающем экране. Это немного успокаивало Последнего, потому что с такой красотой он уже был знаком. Последний забыл о женщине и отдался другому совершенству, продолжая следить за чистой линией и выгравированным контуром до тех пор, пока они не стали траекторией, потом чертежом и, наконец, дорогой. Теперь он знал, что делать, он был в своей стихии. Мальчик спускался вдоль шеи, поворачивал налево, прибавлял газу на подъеме, дальше прямо, на вершине плеча притормаживал, кренился вправо и, теряя равновесие, скользил по мягкой линии руки. Сначала он делал все это мысленно, примеряясь, потом начал чувствовать телом дорогу и потихоньку стал голосом имитировать рев мотора. То, как при этом он подергивал лобком, могло выглядеть, мягко говоря, неприличным. Но разве он виноват, что мотоциклетом в первую очередь управляет задница? Эта аналогия лишний раз открывала бесконечные возможности владения собственным телом, подтверждая, что не самая инстинктивная является одновременно самой устойчивой. Он, который никогда бы не осмелился дотронуться до этого плеча, сейчас следовал по нему, открывая все его тайны, одну за одной. Там, в окружении людей, между ними была такая близость, которой утонченный любовник добивался бы несколько месяцев.
Это кажется невероятным, но женщина подняла руку и коснулась пальцами плеча, словно что-то стряхивая с него.
Тогда и закончилось детство Последнего. Но дело было не в волшебстве того необъяснимого жеста. Детство закончилось, когда кто-то начал громко звать его. Голос принадлежал Тарину. Мальчик повернулся, остановив мотоциклет, и увидел, что Тарин действительно ищет его, пробираясь между рядами. Боясь помешать кому-нибудь, он сгибался в три погибели и шепотом звал его. Последний встал и, извиняясь, стал выбираться из своего ряда.
— Последний!
— Что случилось?
— Беги скорее домой.
— В чем дело?
— Беги домой, Последний.
— Но я смотрю кино, — возразил мальчик, хотя так и не увидел ни одного кадра из фильма.
— Мать сказала, чтобы ты срочно бежал домой.
— В чем дело?
По лицу Тарина было видно, что он знает причину, но не находит слов, чтобы объяснить ее.
— Прошу тебя, иди. Быстрее!
Последний пулей вылетел из мэрии. Вот и дорога к дому: сначала он бежал, потом шел, и вновь пускался бегом, когда дорога поворачивала. На поворотах он наклонялся вбок, изображая губами гул мотора. Он ни о чем не думал. О чем он мог думать?
Когда мальчик увидел свой дом, то остановился. Около мастерской стояли люди, много людей. Их соседи с ближайших ферм. Кого-то из них он вообще не знал. Некоторое время он просто стоял и ждал. Он не был уверен, что хочет идти туда. Но его заметили, и выбора больше не было.
Его привели к двери дома. Дверь была закрыта.
— Она всем запретила входить, — объяснили ему.
Он постучал.
— Мама, это я, Последний.
В ответ тишина.
Последний нажал на ручку и осторожно толкнул дверь. Вошел и бесшумно закрыл за собой дверь.
Флоранс стояла в углу комнаты, прислонившись к стене. Как животное, чувствующее себя защищенным только в своей норе. Она плакала.
Последний приблизился. Обнял ее. Сначала она никак не отреагировала, а потом начала бить его кулаками в грудь. Удары становились все чаще и сильнее. Он ждал, когда Флоранс устанет и позволит обнять себя. Казалось, что она ничего не весит, что она есть и ее нет.
— Где папа?
Она не могла выговорить ни слова.
— Он жив?
Флоранс кивнула в ответ.
— Все будет хорошо, мам.
Она опять кивнула.
— Что произошло?
Флоранс сказала что-то о загоревшемся автомобиле.
— Где папа сейчас?
— В городе. В больнице.
— Надо ехать к нему.
Но она даже не пошевелилась.
— Мама, я должен поехать к нему.
— Да.
— Все будет хорошо.
— Да.
Последний подумал об отце и не смог представить его на больничной койке. Легче было представить его обуглившимся в охваченном пламенем автомобиле, чем на белоснежной больничной койке. Этого просто не могло быть. Но вышло именно так, и это значит, что мир не подчиняется никаким законам и что жизнь снова, уже который раз, загнала их в тупик.
— Позволь им войти. Они только хотят помочь.
Флоранс не пошевелилась.
— Иди, сядь.
Он взял ее за руку и отвел к одному из стульев, стоявших вокруг стола. Заставил сесть. Она сжимала носовой платок. Сжимала так сильно, что даже пальцы побелели. Последний вспомнил, какой сильной всегда была мать, и спросил себя: что же должно было произойти, чтобы сломать такую женщину, как она? Он наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб.