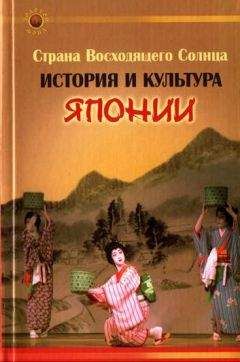Юра Окамото - ЯПОНИЯ БЕЗ ВРАНЬЯ исповедь в сорока одном сюжете
Зарабатывать любит и его жена. Недавно она пристроила детей на продлёнку и работает на полставки кассиршей в супермаркете неподалёку, хотя деньги семье не так уж и нужны — единственным результатом её трудов, пожалуй, станет ещё одна поездка семьёй дней на пять на Гавайи. Однажды я подошёл к её кассе, она расторопно обслужила меня, уложила покупки в полиэтиленовый пакет, излишне вежливо поблагодарила, затем посмотрела на меня, и я увидел в её глазах усталость — ту же самую, что у мужа. Я отвёл взгляд и увидел надпись на кассе «We can’t change».
17. РАЗГОВОРЫ У ПАРИКМАХЕРА
Парикмахер мой — маленький, лысый и очень работящий человек уже за шестьдесят. В город он приехал из маленькой рыбачьей деревни на другом конце Японии, где строил рыбакам лодки. Да только было это ему неинтересно.
— Хорошо лодку сделаешь — рыбак к тебе лет двадцать не придёт, потому как не ломается она. А плохо сделаешь — тоже не придёт, потому как доверия к тебе не будет. Неинтересно же. А волосы — не лодки. Как хорошо ни подстрижёшь, всё равно через месяц-два отрастут.
…А ещё, знаешь, в деревне глаза были. Вот выйдешь в магазин, а про тебя говорят, что ты в магазин вышел. Купишь там лепёшку рисовую, а про тебя говорят, что ты лепёшку рисовую купил. Могут и добавить, что у тебя жена готовит плохо, потому вон и купил. Или что ты к соседке хаживаешь, потому жена и не кормит. А могут и не сказать. Но смотреть-то смотрят. А в городе живёшь себе, как хочешь — на тебя не смотрит никто, да и сам не смотришь — надо, что ли?
Парикмахер закончил меня стричь, положил левую руку мне на плечо, оттопырил средний палец, взялся за него правой рукой и начал подёргивать за него, имитируя массажный аппарат. Потом проделал то же самое с другим плечом. Затем по очереди ударил по обоим плечам сложенными ладонями, которые звучно брякнули друг о друга, словно две дощечки — не представляю, как это у него получается, — что означало, что сеанс закончен. Я расплатился, но вместо того, чтобы уходить, прошёл в кухню — мне хотелось выкурить с дочкой парикмахера сигарету, послушать новости. Но вместо кухни она, приложив палец к губам, провела меня вглубь дома, остановилась перед массивной дверью, повернула ключ в замке, распахнула дверь и включила свет:
— Вон, погляди на счастье отцовское. Только быстро, а то придёт ещё.
Для японского дома комната была просто огромная, в середине — мраморный стол, на столе — пепельница, тоже из мрамора, у стола — два кресла, очевидно, сделанных некогда для Людовика XIV, а вокруг — бесконечные скульптуры Венер, в разных позах и с разной степенью обнажённости. Все стены были завешаны тяжёлыми бордовыми шторами, хотя ни одного окна не было — очевидно, чтобы Япония, не дай бог, не влезла в щёлку и не растерзала нежную Европу когтями.
— Каждая Венера — мильон иен, не меньше, — сказала дочка парикмахера. — На столе, видишь, пепельница, а курить нельзя — чтоб не воняло. Отец каждый день чистоту тут наводит, чтоб ни пылиночки, на ключ запрёт, никого не пускает, стрижёт кому-нибудь волосы, вертится, про тяжёлую жизнь слушает, говорит: «Да неужели, да я б никогда не поверил», — а сам себе думает: «У меня Венер полная комната». А Венеры, вишь, по кругу стоят, на пепельницу смотрят, думают: «Курнуть бы. Ан нельзя. Строгий он». Вот брат и свихнулся.
Сын парикмахера был добрый, даже слишком добрый и преувеличенно вежливый, маленький, как и его отец, но в юности занимался японским единоборством. После университета он одно время работал коммивояжёром в фармацевтическую фирму и развозил лекарства по аптекам.
— Какой водила на него посмотрит не так, а он выйдет, подойдёт, и — в глаз. А если тот дверцу не откроет, так он ему зеркало сломает, и — в речку. А один раз сам получил, да так, что челюсть надвое раскололо — пластину ему вставили, три месяца с закрытым ртом ходил. А пластина так и осталась. Кажись, медная… А потом с отцом работать стал, а у отца в голове Венеры одни, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Парню тяжело, одно время стриг каждого по часу — чтоб не облажаться, — а потом совсем худо стало, из туалета выйти не мог. Выключит свет, а ему кажется, что не до конца выключатель нажал, снова включит, и так часа два — то включает, то выключает. Перестал он работать, волосами оброс, в коридоре манга стопками лежат, не пройдёшь, а в комнату свою не пускает. Сам воняет, как бездомный, а рядом — дом, специально для него отцом выстроенный, стоит, красивенький весь такой, а он туда и не заходит… Отец его к доктору, а доктор говорит: болезнь. И ещё название сказал, сначала по-английски, а потом и иероглифы на бумажке написал. Европейская, говорит, болезнь, раньше не было таких. Пришлось отцу одному на Венер зарабатывать, так и живём. Ладно, в кухню пошли.
Мы сели у стола с уже функциональной пепельницей и закурили.
— Слушай, а мы тут к родне ездили, так там ребёнок один двухлетний, груди трогать любит. Так я его посадила к себе на колени, а он сразу мне руку под кофту, шарит там, шарит, потом повернётся и орёт на всю комнату: «Мам, нету!» Вся родня хохочет, конечно, ну и я тоже. А чего мне дёргаться? Всё уже, срок годности истёк.
Дочка парикмахера держит в соседнем доме косметический салон. К ней приходят дамы, ложатся на кровать, а дочка парикмахера накладывает на них маски и мази и слушает бесконечные истории о тяжёлой жизни — в основном о том, что им приходится терпеть от мужа и свекрови. Ни мужа, ни свекрови у дочки парикмахера нет, зато есть умелые руки с потрескавшейся от мазей кожей.
Докурив, я вышел на улицу. На витрине к Рождеству были выставлены санки, на которых сидел бородатый Санта-Клаус с мешком за плечом. Санта был, очевидно, куплен в магазине, а вот санки парикмахер изготовил из фанеры сам. По форме они были похожи на рыбачью лодку — разок просмолишь, и в море.
18. СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ И РОЗОВЫЕ ФУТОНЫ
Высокий жилистый парень под тридцать с длинными, как полагается артисту, волосами, глазами с романтической дымкой и некоторой неуверенностью в изгибе рта сидит передо мной, сложив ноги, длинные пальцы как-то по-женски держат сигарету.
— Представьте, дом многоквартирный, стоит уже лет тридцать, люди со всей Японии приехали, прожили вместе полжизни, детей народили, состарились, а друг друга почти не знают. Ну не нужно это современному человеку, сейчас же каждый за себя — отработал своё и сиди себе, телевизор смотри. Не то что раньше, в деревнях. Вот мы и поставили там чан с краской и объявили всем, что будем им простыни красить. Сначала никто не интересовался, а потом стали приходить домохозяйки, то поодиночке, то вдвоём — покрасят и домой несут. Дом стоит буквой П, просыпаешься утром, идёшь на балкон футон вешать, а на той стороне уже на трёх балконах футоны с розовыми простынями висят, как у тебя. Вот и другие стали приходить — интересно. Через месяц, когда мы уезжали, почти весь дом был розовыми футонами увешан. Мелочь, а всё-таки новая связь какая-то, что-то, о чём им теперь поговорить можно.
Или вот храм один на юге страны. Там тысячелетний дуб недавно пришлось спилить. Монахам стыдно, что он при них засох, — так я предложил настоятелю огородить это место и складывать там опавшие листья с других деревьев, будто то дерево ещё стоит. Вроде негатива получается, понимаете? Дерева нет уже, а листья лежат. Идут люди мимо, кто-то и вспомнит о нём. Старики внукам о нём рассказывают, и так далее. Сейчас культура пропадает, её же как-то передавать надо следующим поколениям.
Как сотни и тысячи подобных, мой собеседник работает по всей Японии, выбивая из муниципалитетов деньги на различные художественные проекты, идея которых — налаживать потерянные во время индустриализации связи между людьми, поднимать общины.
Действительно, со связями в Японии плохо. Пятьдесят лет тому назад к ближайшим соседям ещё можно было зайти, когда пожелаешь, одолжить соевый соус или мисо, а когда у тебя был лишний сладкий пирожок, ты нёс его или соседу, или приятелю — просто потому, что на таких связях всё в общем-то и держалось. В процессе модернизации горожан вытащили из общин в фирмы, объяснили, что главное — встать на ноги и отвечать за себя, но в результате — во всяком случае, в новых районах, где селится средний класс, — получили не общество индивидуумов западного типа, а общество категорий. Имена собственные ушли в прошлое, подменённые именами нарицательными, и человек, раньше состоявший из пучка индивидуальных связей с другими индивидуумами своей маленькой общины, превратился в пучок обезличенных категорий — отца, соседа, подчинённого, пассажира, заказчика, покупателя. Эта система позволяет ему оперировать в гораздо большем обществе, да и функционирует, наверное, лучше, но меня, честно говоря, пугает, когда двое молодых должны сначала оговорить рамки происходящего (например, фразой «Будешь моей девушкой?») и только потом могут поцеловаться. Люди в любой момент жизни точно знают, какую они играют роль, могут отчитаться перед собой и другими в рациональности своих поступков, а свой успех, как и поражение, смакуют в одиночестве.