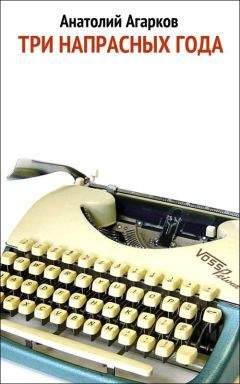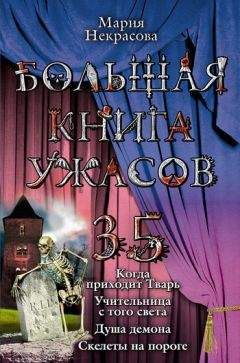Дмитрий Лычев - (Интро)миссия
Перед тем, как тронуться в путь, мы несколько раз покурили, и всё это время Антошка обнимал меня и пару раз снизошел до поцелуев. И даже курить не запрещал. Мы прекрасно понимали, что видим друг друга в последний раз. Я не собирался быстро выздоравливать, а он через неделю уезжал домой. Уединившись в приемном покое, мы долго смотрели друг другу в глаза, после чего он резко встал, хлопнул меня по плечу и быстрым шагом направился к машине. Сев на стул, я не мог больше скрыть слез и зарыдал, как маленький. Было чувство, что я расстался с самым близким человеком. Хотелось выбежать и повиснуть у него на шее. Впившись руками в спинку стула, я проводил взглядом резко рванувший „газик“, который вскоре расстаял в лучах игривого майского солнца.
7. Жизнь — как зэбра!
Свежий майский кислород, который усердно вырабатывали стоящие вокруг госпиталя сосны и ели, не мог исцелить мой душевный недуг. Пневмония постепенно отступала, благодаря нещадным дозам пенициллина, от которого задница превратилась в сито в первую же неделю лечения. От хандры же лекарства не было. Как ни старался я выискать какого-нибудь милого доктора среди этой бесконечной людской массы, всё было напрасно. Я начал выходить на улицу и описывать круги вдоль забора. Он был выше, чем в Минске, но осознание того, что ты всего лишь в метре от полной свободы, теплилось в душе и согревало пока еще воспаленные легкие. Было скучно. Здесь еще не забыли, что я самый больной, поэтому работать не заставляли. В отличие от Минска, не было яркого лидера среди „дедов“ типа Алика, поэтому работать приходилось всем, кроме меня. Роль надзирателей исправно исполняли медсестры — милые девочки со злыми, но постоянно зовущими в постель глазами. О малейшем ослушании со стороны пациентов немедленно узнавало госпитальное начальство, которое в поиске наказания не отличалось особым разнообразием: больной сразу выписывался независимо от характера заболевания — как я в первый свой приезд сюда. Был случай, когда выписали мальчика с тяжелой формой эпилепсии — за то, что он послал медсестру подальше. Мальчик этот через неделю погиб, ударившись во время припадка у себя в казарме. Госпитальные крысы остались ни при чем, так как догадались в сопроводительных документах написать, что парень выписывается без жалоб, практически здоровым. Дело списали на казарменную дедовщину. Виноватым оказалось армейское начальство. Командира части проводили на пенсию, нескольким офицерам объявили строгий выговор, командира взвода исключили из партии. Всё! А девятнадцатилетнего парня больше не было на свете. Жутко…
Начальник госпиталя, подполковник, ходил, как ни в чём не бывало. Лишь второй случай смерти за неделю заставил его забегать, и то лишь потому, что на сей раз парень умер в госпитале. Его привезли с ангиной. Уже в первый день он пошел разгружать машины с кирпичом. Сколько я ни приезжал туда, там постоянно что-то строили — точно врачей Петр Первый, наш великий строитель, покусал. То основывали свинарник, то воздвигали коровник, то возводили еще что-нибудь, дабы наворовать стройматериалов. Машины с кирпичом не переводились, и на разгрузку ушел весь день. Было прохладно, изредка моросил теплый, но ужасно противный дождик. Ночью парень умер — задохнулся в нашей палате. Как потом выяснилось, никакой ангины не было. Врачи не могли, а может, не хотели проверить парня на дифтерию, случаи которой надо было обязательно вносить в отчетные документы. А от лишней работы здесь старались избавляться любым способом. Разбирательств хватило на три дня. Комиссия согласилась с мнением начальника госпиталя, что это была настолько тяжелая и необычная форма дифтерии, что медицина в любом случае оказалась бы бессильной. И парня списали в расход, как мою разорванную подушку.
Через неделю все забыли об этом случае, тем более, что начальство приложило к этому особенные усилия. Очевидцев выписали без промедления. Оказывается, бывает в нашей армии такой феномен: когда все разом выздоравливают. Эпидемия наоборот. До сих пор удивляюсь, почему оставили меня. Наверно, подумали, что я вовсе разучился разговаривать. Ни с кем не общался, на вопросы врачей отвечал отрывисто. Или вообще молчал, потому что ненавидел их всех. Ошиблись, сволочи!
Вскоре все вновь поступившие узнали об этой истории. Правда, она не произвела на них никакого впечатления. Это случилось не с ними. И им было до лампочки. Я был удивлен таким дофенизмом. Никто не смел возмутиться против рабского труда. Больные ребята работали на свинарнике, обслуживая тех, чьи рыла мало отличались от фейсов госпитального командования — на кухне, на строительстве новых зданий, прокладке дорожек внутри госпитального парка. В общем, делали работу, за которую платили деньги несуществующим рабочим. Думаю, не стоит говорить, в чьих карманах они оседали. Тяжело было наблюдать за всем этим. Я так и не мог примириться с жизнью армии, этого государства в государстве. Всё это мне так обрыдло, что я уже стал подумывать, как бы поскорее выписаться, но решил немного подождать, пока мои однополчане в Печах сдадут экзамены и разъедутся. По моим предположениям, казарма должна была опустеть дней через десять, поэтому надо было на это время кем-нибудь себя занять. Во время моционов я стал всё пристальней посматривать по сторонам.
В один прекрасный день я уперся взглядом в стройного и красивого белокурого мальчика, который вскапывал землю, так и не зная, для чего. Я спросил его об этом, он посоветовал обратиться с этим вопросом к подполковнику. Разговорились. Звали его Алексеем, служил он третью неделю. Родом был из еврейского городка Бобруйска, находившегося, впрочем, в Белоруссии. Мне страшно понравилось сочетание его коротко остриженных светлых волос и голубых глаз с черными и густыми брежневскими бровями. Чувствовалась неистовая мужская сила. „Мужчина в доме“ нужен был мне сейчас до зарезу. Решение отдаться пришло само собой… Неожиданно… Спонтанно…
По вечерам для работавших открывали душевую, которой на халяву часто пользовался и я. В этот день ее почему-то забыли открыть, и мне пришлось ждать близости с новым избранником еще сутки. Утром я пошел помогать ему вскапывать землю. Вся моя помощь заключалась лишь в моем присутствии и моральной поддержке. Пока Лёха занимался нужным для госпиталя делом, я травил анекдоты и рассказывал смешные истории. Незаметно пересел на своего любимого конька. Анекдоты про педиков были настолько старыми, что не произвели на него никакого впечатления. Я как бы кстати поведал часть своих минских приключений, но как бы не от первого лица. Лояльность моего молчаливого собеседника дала толчок для новых басен. Солнце постепенно удалялось на Запад. Я изъявил желание принять душ и попросил Лёху составить мне компанию. Мне кажется, именно тогда он всё понял. Только дурак мог по-другому оценить блеск моих глаз.
После ужина, дождавшись, пока все подмоются, мы пришли в обшарпанную и окутанную туманом душевую. Туман не мог скрыть волнения, которое было написано на лице Лёхи открытым текстом. Я закрыл щеколду, но крепость двери оставляла желать лучшего. Проигнорировав сей факт, я шагнул в струю воды, в которой уже плескался Лёшка. Чувствуя приближение предстоящего развлечения, его инструмент приподнялся и являл собой прекрасный ключ к моему замку. Леха нежно взял меня за талию, погладил попку и поцеловал в ключицу. Я медленно опустился и оказался нос к носу с уже полностью взбодрившимся пенисом, который так и дышал силой. Упругий и непоседливый, казалось, он вот-вот вырвется изо рта.
Насладившись, Лёшка попросил повернуться спиной. Вошел он нежно и только потом стал яростно метаться по закоулкам давно не хоженой пещеры. Громко постанывая, он исправно делал свое дело. Что ни говори, даже для „натурала“ это приятнее, чем перекладывать с места на место землю. Вскоре Лёха облегченно вздохнул и пустил в меня мощную струю. В это время дверь душевой с треском распахнулась, и нашим взорам предстала вытянувшаяся физиономия моего соседа по палате. Это был мерзкий неотесанный мужлан, призванный в армию из Казахстана — немец казахский. Если бы у глупости были крылья, он бы летал, как голубь. Надеялся он только на свои кулаки. Именно благодаря им он выжил у себя в части среди бывших заключенных. Не произнеся ни слова, досконально разглядев живое порно, он скрылся, унося за собой теплый воздух вперемешку с паром.
Лёха испуганно посмотрел на меня с вопросом: что же будет теперь? А я не знал, что будет. Будет скандал, только неизвестно, до каких размеров он разрастется. Надежды на то, что глупый немец не расскажет об увиденном всему отделению, не было никакой. Алексей оделся и пошел в корпус. Мне же нужно было подумать. Я не видел никакой необходимости оправдываться и делать вид, что ничего не случилось. Рассчитывая взять всех своим обаянием, я пошел в палату, не забыв прихватить обломок железной трубы — так, на всякий случай. И всё же интересно, зачем он приходил? Может, сказать что хотел?..