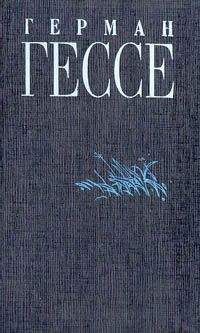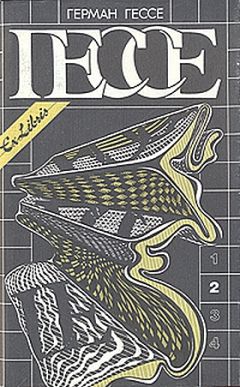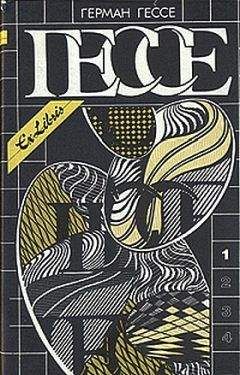Марина Москвина - Танец мотыльков над сухой землей
У нас есть приятель — художник Николай Козлов. Однажды он стоял с кем-то на бульваре — разговаривал, разговаривал, в конце концов — взял и упал навзничь, «чтобы у всех от этой тусклой беседы, — как он объяснил потом, — осталось хоть какое-то интересное воспоминание…».
* * *Как-то Коля Козлов создал инсталляцию из железа «Ferrum» в виде огромных букв и выставил их в галерее у Александра Якута. Через некоторое время Якут решил расширить выставочное пространство и перенес Колины скульптуры в растущую новостройку.
Коля:
— Где они? Где?..
— Да там…
Коля начал исследовать этот вопрос. Он долго искал и обнаружил, что в новом помещении его скульптуры строители замуровали в стены, им это показалось хорошо — для прочности.
* * *Ищу носки в куче белья — не могу найти парные.
— Тогда надевай кардинально разные, — посоветовала художница Маша Константинова. — Ни в коем случае не допускай того, чтобы один немногоотличался от другого.
В арт-клубе «МуХа» в конце 90-х годов Леня Тишков устроил Маше Константиновой выставку. На вернисаж пришел корреспондент из «Экспресс-газеты». Леня ему рассказывает:
— У Маши был кот Иосиф. Он служил в Белой гвардии, вот его китель. Но случилась революция, и он стал служить в Красной армии, вот его шинель. Потом его арестовали как бывшего белого офицера, он прошел ГУЛаг, вот его ватник с номером. В старости у него случился рак мозга, операция на Каширке, это его фотография с забинтованной головой. Теперь он умер, вот такая история.
Корреспондент молча спустился в ресторан, хлопнул рюмку, потом подходит снова и спрашивает:
— Скажите, пожалуйста, вот я не понял, как это… кот — и гусар???
* * *— У нас была учительница, — говорит Яша Аким, — она очень плохо относилась к евреям. Однажды она отпустила замечание в адрес моего одноклассника Кости Уманского, он стал потом известным врачом. А нос у него, надо сказать, во-от такой! На что Костя спокойно ответил ей: «Что на витрине, то и в магазине».
* * *— Знаешь, как тебя называют за глаза? — спросил Чижиков. — Шпаро русской литературы!
* * *— Я остановился у Стацинского в Париже, — говорил Женя Монин. — В бараке, где он жил, в потолке была дырка, виднелось небо. Утром мы шли на базар, покупали устриц, на помойке находили приличную дыню, завтракали, и я предлагал:
— Ну, пойдем в Лувр или хотя бы в Тюильри.
А он отвечал:
— Чуть попозже.
И до вечера мне рассказывал о своих успехах у женщин.
Так мы с ним прожили полтора месяца.
* * *Татьяна Бек — мне и Дине Рубиной:
— У меня был знакомый по фамилии Однопозов. И его все дразнили Однозопов.
Пауза.
— Ну, — спрашивает меня Дина, — и как мы это будем делить?
— Пополам! — предложила Таня.
* * *К нам в Уваровку на станционную площадь приехал грузовик — мед продавать.
Леня рассказывает:
— В кузове встала баба, открыла бидон. Подходит семья — дочь великовозрастная, мужик и мать. Мы с ними стоим, думаем: что за мед, покупать — не покупать? Думали, думали, мать говорит: «А можно попробовать?» Та: «Подставляй ладонь». Она подставила — лодочкой, и ей прямо в руку налили мед. Она давай лизать. «Ну что?» — спрашивает муж. «Не знаю…» «Дай-ка мне!» — тут он стал лизать. Дочь: «А мне?» Все трое они стояли лизали ладонь этой тетки — площадь, пыль, поезда. Если бы я спросил: «Ну как?» — мне тоже бы дали попробовать. Осталось к ним присоединиться! Короче, я ушел. Так и не знаю, как они выпутались из этого меда — ни платка, ни салфетки. Только в Уваровке такое возможно!
* * *Леня, увидев шершня:
— Я восхищение испытываю, когда вижу такие организмы!
* * *С журналисткой Жанной Переляевой пришли записывать Эфраима Севелу для радиопередачи. Он — в сером облегающем трико — вынес папку с фотографиями, усадил нас на диван и стал показывать свою фотолетопись.
— Это я на Фиджи, это я — на Войне Судного дня, это моя Машка, это мой сыночек, моя жена, здесь ей 41 год, она родила сына! Мне жмет руку Рокфеллер. Он предоставил мне вот этот дом — тут я написал «Легенды Инвалидной улицы». А это я сижу печальный, мне сообщили, что у меня рак и я скоро умру. Видите, какие нездешние глаза? Вот я веселый, оказалось, все это ошибка, а у меня просто воспаление легких. Тут я выступаю — в зале было много татар, и я поприветствовал их так: «Добрый день, евреи и члены их семей!» Меня пришли слушать даже члены общества «Память»! Вот я, окруженный поклонниками, раздаю автографы, вот раввин — очень мудрый человек. Я его спросил: «Почему вы не купите козу?» Он ответил: «Будут деньги на козу, будем думать про козу!»
— Эфраим, мы хотим включиться! — говорит Жанна, озираясь в поисках розетки, чтобы включить диктофон.
— Потом, — отвечает Севела. — Я, может быть, дам вам интервью о проблеме какой-нибудь актуальной. Меня же ненавидят в этой стране и будут прислушиваться к каждому слову…
* * *В Дом Ханжонкова Эфраим пробирался, как партизан:
— Это же будет ужас, стоит меня им увидеть, все хлынут брать автографы!
Но когда никто не хлынул, ни один человек, он сказал:
— Темновато в зале, меня еще не разглядели, а если узнают — вот будет тарарам!
* * *— Я ведь был сыном полка, причем меня усыновил командир полка — страшный антисемит! Он не мог произнести имя Фима и звал меня просто «юноша во цвете лет». Я помню, как он в белой горячке говорил зеленому змию и разным анчуткам по углам — оборачивался и резко бросал: «А вас не спрашивают!» И помню, как он пел и плакал…
* * *— Если у меня сейчас получится история, — сказал Эфраим Севела, — я вас угощу супом из пятнадцати ингредиентов с гренками под названием лапшевик, и сварю кофе. Только не вздумайте ничего пересказывать! — воскликнул он. — У вас все равно не выйдет, в моих рассказах не так важен сюжет, как фермент!
* * *— Люсина подруга Люба работала хирургом в Боткинской больнице, — я говорю Лёне. — А ее муж был большой жизнелюб и донжуан. Он пережил два инфаркта, оба сопровождались остановкой сердца. Два раза она запускала ему сердце, в 42 года и в 58. И оба раза он потом уезжал в санаторий с другими женщинами. Она ревновала, звонила, приезжала…
Леня:
— …Третий раз она уже не стала?
* * *Моя сестра Алла необыкновенно благородно и трудолюбиво проявила себя в мемориальной области. На могиле у ее бабушки и мамы всегда царит неукоснительный порядок. Более того, на старом кладбище в радиусе чуть не сотни метров она поснимала с могил неприглядные ограды — на свой европейский вкус, наставила горшков с цветами, всем все чистит, моет, поливает, опрыскивает памятники, чтобы, она говорит, у нее глазу было на чем приятно остановиться. Родственники обихоженных ею усопших, хотя и редко приходящие к своим предкам, но все же пришедшие как-то раз и обнаружившие, что она там натворила, уже ей по шапке надавали. Но Алла им объясняет, что они голубятни нагородили и что так уже никто нигде не делает в цивилизованном мире.
— Теперь пойдем к твоим на Ваганьково! — скомандовала Алла. — Я возьму грабли, метлу, бутылки, цветочные горшки, вазы и дам тебе… мастер-класс.
* * *Леня, глядя на мои книги на полке — с удивлением:
— Ого! Как ты уже много написала!
— Это при том, — говорю, — что я пишу абзац в день.
— Но с каким постоянством! — воскликнул Тишков. — Люди то запьют, то закручинятся, то во что-нибудь вляпаются… То разводятся, то меняют квартиры… а ты — абзац в день, абзац в день.
* * *В Переделкине сидим с Леней в буфете, разговариваем. За соседним столом потягивает пиво, в сущности, не знакомый с нами Коля Климонтович — в феске. Он искоса поглядывает на нас, потом окликает:
— И сколько лет вы так разговариваете друг с другом?
— А вы, Коля, — спрашиваю, — сколько дней можете с интересом разговаривать с одним и тем же человеком?
— Дня три. Потом я начинаю повторяться.
Он пересаживается за наш стол, испытующе смотрит на меня:
— Ну? И чем вы занимаетесь?
— Тем же, чем и вы.
— Женская проза? — он произносит с дьявольской усмешкой. — Я называю ее «ЖП».
— Эх, надо было тебе ответить, — говорит Леня, когда мы вышли на улицу, — «Что ты, Коля, на „ЖП“ сейчас вся литература держится. Это раньше она держалась на ваших пенисах, а теперь всё!..»
* * *Чижиков:
— Марин, я не помню, мы на «ты» или на «вы»?
— Мы на «ты» — в одну сторону…
— В какую?
* * *Когда-то отец подарил Якову Акиму глиняную дудочку окарину и показал, как на ней играть. Она была гладкая, покрытая черной глазурью, и десять отверстий — по одному на каждый палец. Яша мне говорил, звук окарины похож на голос кукушки. Когда началась война, он взял ее с собой на фронт. Однажды неподалеку разорвался снаряд, и дудочка раскололась надвое. Всю войну Яша носил половинки окарины в заплечном мешке. Он склеил ее только в День Победы.