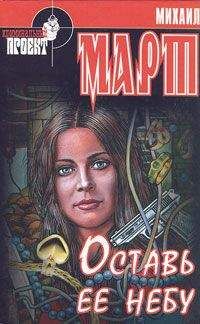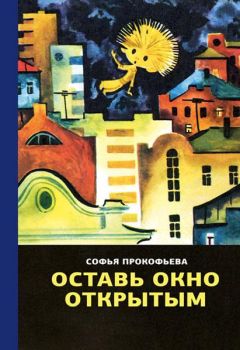Натали Саррот - Детство. "Золотые плоды"
— Кто это был? Хорошо бы вспомнить.
— Нет, не получается... Быть может, Короленко, если судить по уважению, по симпатии к нему, которые я ощущала в маме... она печаталась в его журнале, постоянно с ним общалась, и они с Колей часто о нем говорили... Но дело не в имени. Это уважение, эта симпатия еще усилили, сделали неодолимым давление слов, которые он произнес, совершенно тем же тоном, каким сказал бы взрослому человеку: «Это правда очень интересно. Ты должна мне показать...» И тут... с кем такого не случалось? кто осмелится утверждать, будто ему незнакомо чувство, когда, зная наперед, к чему это приведет, что произойдет, страшась этого... тем не менее идешь навстречу...
— Можно даже сказать — хочешь этого, добиваешься...
— Да, оно будто притягивает... странное влечение...
Я пошла к себе в комнату, вынула из ящика стола толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке, принесла ее и протянула Господину...
— «Дяде», должна бы ты сказать, потому что в России дети называют взрослых мужчин «дядя»...
— Ладно, пусть так, «дядя» открыл тетрадь на первой странице... неуклюжие буквы, написанные красными чернилами, неровные строчки — вверх, вниз... Он быстро пробегает по ним, перелистывает дальше, время от времени задерживается... У него удивленное лицо... у него недовольное лицо... он закрывает тетрадь, возвращает ее мне и говорит: «Прежде, чем приниматься за писание романа, следует выучить орфографию...»
Я унесла тетрадь к себе в комнату, не знаю, что я с нею сделала, во всяком случае, она исчезла, больше я не писала ни строчки...
— Это один из тех редких эпизодов твоего детства, о которых тебе случалось говорить много лет спустя...
— Да, чтобы ответить, чтобы объяснить тем, кто меня спрашивал, почему я так долго выжидала, прежде чем начать «писать»... Это было так удобно, вряд ли можно найти что-нибудь более убедительное — такая великолепная «травма детства»...
— Сама-то ты в это верила?
— Да, все-таки верила... уступая. Из лени. Ведь ты прекрасно знаешь, до последнего времени у меня не возникало никакого желания восстановить события моего детства. Но теперь, когда я стараюсь воскресить как могу эти мгновения, больше всего меня удивляет, что в общем в них нет ни обиды, ни озлобления против «дяди».
— А должно быть, однако... Он был так груб...
— Конечно. Но обида, наверное, быстро улетучилась, и поэтому мне удается вспомнить прежде всего чувство избавления... нечто похожее испытываешь после какой-нибудь операции — прижигания, удаления, это очень болезненно, но необходимо, благотворно...
— Вряд ли ты так воспринимала это тогда...
— Конечно, нет. Я не могла относиться к этому так, как сейчас, когда заставляю себя сделать усилие... на которое не была тогда способна... когда пытаюсь углубиться, добраться, ухватить, вылущить то, что осталось там погребенным.
Я у себя в комнате, сижу за столиком перед окном. Я пишу слова, обмакивая перо в красные чернила... я прекрасно понимаю, что они не такие, как настоящие слова в книгах... они будто изуродованы, слегка покалечены... Вот одно, расхлябанное, неуверенное, я должна его поставить... может, здесь... нет, там... сама не знаю... должно быть, я все-таки ошиблась... что-то оно не очень вяжется с другими, со словами, живущими вовне... я отправилась за ними далеко и притащила к себе, но не знаю, что им подходит, мне неведомы их привычки...
У моих домашних слов, слов надежных, хорошо мне знакомых, которые я расставляю то тут, то там, среди всех этих чужаков, какой-то неловкий, принужденный, немножко смешной вид... точно у людей, перенесенных в незнакомую страну, в общество, чьи обычаи им неведомы, и они не понимают, как себя вести, даже не понимают, кто они на самом деле.
Я тоже запуталась, блуждаю в краю, где никогда не жила... мне совсем незнаком этот бледный юноша со светлыми кудрями, лежащий подле окна с видом на горы Кавказа... Он кашляет, и на платке, который он подносит к губам, — кровь... Ему не дожить до первых дуновений весны... Никогда, ни на мгновение я не была близка с этой кавказской княжной в красной бархатной шапочке с длинной белой вуалью... Она похищена джигитом, затянутым в черную черкеску... газыри оттопыриваются на его груди... я пытаюсь догнать беглецов, когда они мчатся на скакуне... «огневом»... я накидываю на него это слово... слово, в котором ощущаю что-то странное, немного тревожное, но ничего не поделаешь... огневой скакун несет их через ущелья, теснины... они шепчут любовные клятвы... только это им сейчас и нужно... она прижимается к нему... ее черные волосы под белой вуалью ниспадают волной до осиной талии...
Мне не слишком уютно рядом с ними, они смущают меня... но пусть будет так, я должна принять их возможно лучше, они должны жить здесь... в романе... в моем романе, я пишу роман, и я тоже должна остаться с ними здесь... мне не уйти от этого юноши, который умрет весной, от княжны, похищенной джигитом... и еще от этой старой колдуньи с седыми свисающими космами, с крючковатыми пальцами, которая, сидя у огня, предсказывает им... и от всех других, возникающих передо мной...
Я тянусь к ним... я пытаюсь с помощью своих слабых, сомневающихся слов придвинуться к ним ближе, совсем близко, пощупать их, ухватить... Но они негнущиеся, гладкие, отполированные... точно вырезанные из блестящего листового металла... как я ни стараюсь, ничего не выходит, они остаются все такими же, их скользкие поверхности мерцают, искрятся... они точно заколдованы.
И меня тоже будто сглазили, заворожили, я заперта здесь с ними, в этом романе, мне никак не выбраться из него...
И вот эти волшебные слова... «Прежде, чем приниматься за писание романа, следует выучить орфографию»... рушат чары и освобождают меня.
Как я ни сжимаюсь, ни сворачиваюсь в клубочек, ни прячусь с головой под одеяло, страх, страх, равного которому я, по-моему, больше никогда не испытывала, проникает, просачивается в меня... Он идет оттуда... мне нет нужды и смотреть вокруг, я чувствую, что он здесь, повсюду... он окрашивает свет в свой зеленоватый оттенок... я знаю — это он, тот путь меж остроконечных, несгибающихся темных деревьев с мертвенно-бледными стволами... это он — вереница призраков, облаченных в длинные белые одеяния, приближающаяся мрачной чередой к серым плитам... он колеблется в пламени высоких тусклых свечей у них в руках... распространяется вокруг, наполняет комнату... Я хотела бы удрать от него, но мне не хватает храбрости пересечь налитое им пространство, отделяющее мою кровать от двери.
Наконец мне удается на миг высунуть голову из-под одеяла и подать голос... Приходят... «Ну, что еще? — Забыли накрыть картину. — Действительно... Сумасшедший ребенок... — Берут первую попавшуюся тряпку — полотенце, что-то из одежды — и набрасывают на раму... — Ну вот, теперь ничего не видно... Ты больше не боишься? — Нет, не боюсь». Я могу растянуться в постели, положить голову на подушку, расслабиться... Могу смотреть на стену слева от окна... Страх исчез.
Кто-то из взрослых с непринужденным, беззаботным видом, с бесстрастным взглядом фокусника одним мановением руки прогнал его.
Какая она красивая... я не могу оторваться, я крепче сжимаю мамину руку, я удерживаю ее, чтобы остаться тут еще на несколько минут, чтобы подольше рассматривать эту голову в витрине... созерцать ее...
— Трудно восстановить, чем именно заворожила тебя эта кукла из парикмахерской.
Да, что-то не выходит. Я вижу только ее лицо, довольно расплывчатое, гладкое и розовое... лучащееся... словно освещенное изнутри... и еще гордый изгиб ноздрей, губ, приподнимающихся в уголках... Я помню только свое восхищение... все в ней было красиво. Красота заключалась именно в ней. Именно это значило быть красивой.
Я ощущаю внезапно какое-то смущение, легкую боль... будто где-то внутри себя я обо что-то ударилась, что-то меня задело... оно вырисовывается, принимает форму... форму очень четкую: «Она красивее мамы».
— Откуда это вдруг?
— Мне случалось позднее думать об этой минуте, и долгое время мне было достаточно...
— Признайся, если и случалось, то нечасто...
— Да, правда. И я никогда долго на этом не задерживалась... я смутно представляла себе, что важность, которую я, казалось, придавала понятию «красота», исходила скорее всего от мамы. Кто, кроме нее, мог мне это привить? Я была под таким сильным ее влиянием... Она, вероятно, подвела меня к этому... ничего не требуя... она, конечно, склонила меня — так, что я не отдавала себе в этом отчета — считать ее очень красивой, несравненной красавицей... Отсюда и мое смущение, неловкость...
Но теперь, как я ни стараюсь, мне не удается уловить никаких маминых рассуждений о «красоте», разве что по поводу моей тети: «Анюта — настоящая красавица», или еще в разговоре об одной приятельнице, имя и лицо которой совершенно стерлись из моей памяти. «Она очень красивая», — но неизменно в тоне спокойной констатации. Безразлично. Как о чем-то ее не касающемся.