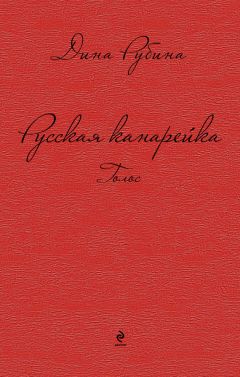Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
— Моя дочь? С ней все в порядке?
Чем просто оглушил Леона.
— Илья Константинович… — пробормотал он. — Я полагаю… Я уверен, что в данный момент она…
…В данный момент ты понятия не имеешь, где она обретается.
— …надеюсь, что она вполне благополучна.
…Если можно назвать благополучной девушку с подобным шрамом на спине.
— Я как раз привез вам от нее подарок, — заторопился Леон, — и привет.
Расстегнул и развязал рюкзак, выгреб со дна, из-под тощей стопки вещей, медную птичью мини-карету:
— Забавная, правда?
А заодно привет от брата Яши.
Илья Константинович молча разглядывал гостя, как бы вынуждая его держать на весу изящную кружевную вещицу.
— Нет, — наконец проговорил он. — Не забавная. Тут что-то не то. Вряд ли ей пришло бы в голову что-то мне передавать. И к канарейкам она довольно равнодушна. К тому же дня три назад я получил от нее записочку на телефон. И никакой клетки, никакого привета. И никакого вас… Я скоро вернусь, — спокойно заключил он. — У вас есть минут десять на коррекцию: кто вы и что вам нужно. А чай получите при любом раскладе.
…Вернулся он и правда довольно скоро, но не в столовую, а в кухню, где сначала бухтел-бухтел, пока не щелкнул, электрический чайник, потом звякали разные поверхности — фарфоровые, деревянные, металлические. Мягко и сытно ухнул в ведро влажный ком старой заварки. Затем отвинчивались крышечки на банках, с шелестом вываливались из них конфеты. Наконец с подносом в руках, высоко переступив через порог, явился хозяин.
Леон уже сидел за столом, виноватый и озадаченный.
— Вам ложка парадная, гостевая, — расставляя приборы, заметил хозяин. — Подарок Айе «на зубок». Друг семьи подарил… Ну, не важно. Пожалуйста: вот хлеб, масло, сыр… Если привыкли — молоко. Это по-казахски. Так, с чего начнем? Я черный заварил, вы не против? С утра дает энергию…
— Илья Константинович, — проговорил Леон, пытаясь взглядом поймать вежливо-уклончивый взгляд хозяина. — Простите меня за невинное вранье. Клетку я привез вам в подарок. Клетка хорошая, с парижской барахолки, не отказывайтесь. Может, в ней какой-нибудь очередной Желтухин совершит путешествие?
Илья поднял голову:
— Позвольте, а откуда…
У него, у хозяина, были хорошие глаза — темнее, чем у Айи, иронично-вопросительные, в мягких подушках тяжелых век.
— И поскольку вы не обязаны верить на слово такому подозрительному лгуну, для начала продемонстрирую наглядно, кто я. Понимаете, до известной степени я тоже… кенарь. Не верите?
Он откинулся к спинке стула, вдохнул…
Этот фокус везде срабатывал безукоризненно. Но то, что произошло в доме после визитной заливистой трели гостя, обескуражило его самого: десятки крошечных певчих глоток после ошеломленной паузы подхватили запев и засвиристели, засвистели, раскатили свои бубенчики по множеству серебряных дорожек…
— Ах, бож ты мой! — воскликнул Илья Константинович, всплеснув тяжелыми большими ладонями. — Диверсия, караул! Вы певец, что ли?!
Леон кивнул, глядя на него смеющимися глазами.
— А голос-то, голос… прямо и не знаю: что это — сопрано? Откуда такие птичьи трели? Это и не тенор, а…
— …Контратенор, — подсказал Леон. — У меня контратенор. Очень высокий голос от рождения. Такой вот нонсенс природы. Мое имя — Леон Этингер.
Он достал из нагрудного кармана куртки твердую картонную обложку, точно собирался предъявить визитную карточку. Но извлек из нее старую коричневатую фотографию с обломанными зубчиками по краям.
— Вам эта карточка знакома?
Эська на фото (высокая шейка, черная бархотка, кружева валансьен, победная юная прелесть) по-прежнему тянулась губами к кенарю на жердочке.
Илья как глянул, так и ахнул. Помолчал, прослезился. Отер большим пальцем оба глаза и взволнованно спросил:
— Вы из семьи Желтухина Первого?
Леон опять молча кивнул.
Ну и дальше покатилось…
И чай остыл, и снова был заварен, пока «известная одесская балерина» превращалась в Эську, в Барышню и исполняла «Полонез» Огинского — тот самый, над которым до конца своих дней сморкался и плакал Зверолов; и прекрасный и плодородный Стешин дух слетал на скатерть, чтоб через Леона свидетельствовать о героической гибели Первого Желтухина (значит, не в бозе почил, тихо заметил Илья, — погиб смертью храбрых).
Ну что ж, вот, значит, и познакомились…
А комната была прекрасная. Соразмерно-просторная, приветливая, и дубовая громада исповедальни не портила ее, а как бы освящала и делала необыкновенной, значительной. За окном пылало и плыло облако огненной скумпии, а в комнате ей отзывалась могучая пальма, выращенная когда-то из косточки. Где-то там, неподалеку, но недостижимо восходили, расстилались, длились ныне вырубленные апортовые сады, куда на лыжах Айя бегала встречать рассвет. Где-то там, на горизонте, но волнующе близко леденисто млели в утреннем солнце снежные пики гор, и совсем рядом бежал проспект, на котором из армейского грузовика ей в грудь прилетело большое яблоко… Вот, значит, где она выросла.
— Однажды в конце осени, — рассказывала она, — за год до бабушкиной смерти, по саду прошел трактор, повалил все яблони: опрокидывал их ударом в грудь. Но их не прикончили, не выкорчевали. И весной эти поваленные яблони зацвели. И лежали рядами, цветущие, как молодые убранные покойницы, — их потом так и вывозили оттуда, в цветах. Такое сладостное благоухание было разлито в воздухе — невероятное, в последний раз! И так покорно и прекрасно дрожали-колыхались бело-розовые ветви, полные цветов… Мы с папой стояли и смотрели им вслед, держась за руки. Вот это было страшно — эта похоронная процессия… Теперь на их месте — микрорайон Алмагуль, — добавила она. — В смысле, «Цветок яблони».
— Да. Но все-таки: при чем тут моя дочь? — спросил Илья Константинович точно как Айя: неожиданно и прямо.
И разом ушли легкость и артистизм, умение вывинтиться из любой щекотливой закру́ти. Ушли слова. Леон вдруг обнаружил, что ничего не способен сказать сейчас этому человеку, ее отцу, кроме правды.
— Дело в том… — проговорил он, с трудом выуживая слова из внезапно пересохшей гортани, — дело в том, что мы повстречались — там, на острове. Знаете, как судьба… А потом я ее потерял.
— Это бывает, — спокойно заметил Илья Константинович. — Она обычно сама всех с удовольствием теряет. Не хочу вас огорчать, но вот уж кто — не канарейка. Вот кто — птица свободная.
— Нет! — горячо возразил Леон. — Тут точно я виноват, я один. А ваш адрес — это вообще единственное, что от нее осталось. Ну, я и прилетел сюда, к вам, какой-то… оголтелый. И на один день всего: у меня самолет назад через пять часов. Просить прилетел: дайте мне, ради бога, ее телефон. Верните мне вашу милую дочь.