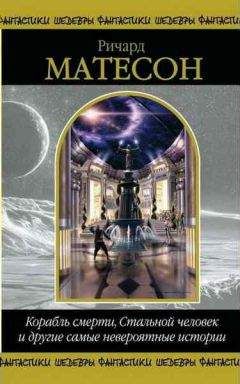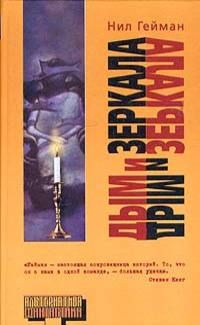Владимир Соловьев - Эстетика. О поэтах. Стихи и проза
Тут со мною вдруг какое-то просветление сделалось. Сердце будто растаяло, и мир Божий точно мне опять улыбнулся. Спрашиваю армянина, давно ли черти отсюда ушли? По его соображению – часа три.
– А много ли до вашего села конного пути?
– Пять часов с лишком.
– Ну, в два часа никак не догонишь. Ах ты, Господи! А другая-то дорога к вам есть, короче?
– Есть, есть. – А сам весь встрепенулся. – Есть дорога через ущелья. Совсем короткая. Немногие и знают ее.
– Конному пройти можно?
– Можно.
– А орудиям?
– Трудно будет. А можно.
Велел я дать армянину лошадь, и со всем отрядом – за ним в ущелье. Как уж мы там в горах карабкались – я и не заметил хорошенько. Опять машинальность нашла; но только в душе легкость какая-то, точно на крыльях лечу, и уверенность полная: знаю, что нужно делать, и чувствую, что будет сделано.
Стали мы выходить из последнего ущелья, после которого наша дорога на большую переходила, – вижу, армянин скачет назад, машет руками: тут, мол, они! Подъехал я к передовому разъезду, навел трубку: точно – конницы видимо-невидимо; ну, не сорок тысяч, конечно, а тысячи три-четыре будет, если не все пять. Увидали чертовы дети казаков – поворотили нам навстречу – мы-то им в левый фланг из ущелья выходили. Стали из ружей палить в казаков. Ведь так и жарят, азиатские чудища, из европейских ружей, точно люди! То там, то тут казак с лошади свалится. Старший из сотенных командиров подъезжает ко мне:
– Прикажите атаковать, ваше превосходительство! Что ж они, анафемы, нас, как перепелок, подстреливать будут, пока орудия-то устанавливают. Мы их и сами разнесем.
– Потерпите, голубчики, еще чуточку, говорю. Разогнать-то, говорю, вы их разгоните, а какая ж в том сладость? Мне Бог велит прикончить их, а не разгонять.
Ну, двум сотенным командирам приказал, наступая врассыпную, начать с чертями перестрелку, а потом, ввязавшись в дело, отходить на орудия. Одну сотню оставил маскировать орудия, а нижегородцев поставил уступами влево от батареи. Сам весь дрожу от нетерпения. И младенец-то жареный с выкаченными глазами передо мной, и казаки-то падают. Ах ты, Господи!
ДАМА. Как же кончилось?
ГЕНЕРАЛ. А кончилось по самому хорошему, без промаха! Ввязались казаки в перестрелку и сейчас же стали отходить назад с гиком. Чертово племя за ними – раззадорились, уж и стрелять перестали, скачут всей оравой прямо на нас. Подскакали казаки к своим саженей на двести и рассыпались горохом кто куда. Ну, вижу, пришел час воли Божией. Сотня, раздайся! Раздвинулось мое прикрытие пополам – направо-налево – все готово. Господи благослови! Приказал пальбу батарее.
И благословил же Господь все мои шесть зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слыхивал. Не успели они опомниться – второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась. Третий – вдогонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить как капусту. Немного их ускакало – которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уж и ружья бросают, с лошадей соскакивают, амана запросили. Ну, тут я уж и не распоряжался – люди и сами понимали, что не до амана теперь, – всех казаки и нижегородцы порубили.
А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после двух первых-то залпов, что были им, можно сказать, в упор пущены – саженях в двадцати-тридцати, – если бы они вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки поскакали, так уж нам была бы верная крышка – третьего-то залпа уж не дали бы!
Ну, с нами Бог! Кончилось дело. А у меня на душе – светлое Христово Воскресение. Собрали мы своих убитых – тридцать семь человек Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в третьей сотне старый урядник, Одарченко, великий начетчик и способностей удивительных. В Англии был бы первым министром. Теперь он в Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольничьего монастыря и истреблении гроба какого-то их почитаемого старца. Кликнул я его. «Ну, – говорю, – Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуиях разбираться, будь у нас за попа – отпевай наших покойников». А для него, само собой, первое удовольствие. «Рад стараться, ваше превосходительство!» А сам, бестия, даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись. Отпели чин-чином. Только священнического разрешения нельзя было дать, да тут его и не нужно было: разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою за други своя полагают. Вот как сейчас мне это отпевание представляется. День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом, внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно Божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая, точно с меня вся нечистота житейская смыта и все тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние – чувствую Бога, да и только. А как стал Одарченко по именам поминать новопреставленных воинов, за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших, тут-то я почувствовал, что не многоглаголение это официальное и не титул какой-то, как вот вы изволили говорить, а что взаправду есть христолюбивое воинство и что война, как была, так есть и будет до конца мира великим, честным и святым делом…
КНЯЗЬ (после некоторого молчания). Ну а когда вы похоронили своих в этом светлом настроении, неужели совсем-таки не вспомнили о неприятелях, которых вы убили в таком большом количестве?
ГЕНЕРАЛ. Ну, слава Богу, что мы успели двинуться дальше прежде, чем эта падаль не стала о себе напоминать.
ДАМА. Ах, вот и испортили все впечатление. Ну, можно ли это?
ГЕНЕРАЛ (обращаясь к князю). Да чего бы вы, собственно, от меня хотели? Чтобы я давал христианское погребение этим шакалам, которые не были ни христиане, ни мусульмане, а черт знает кто? А ведь, если бы я, сойдя с ума, велел бы их в самом деле вместе с казаками отпевать, вы бы, пожалуй, стали меня обличать в религиозном насилии. Как же? Эти несчастные милашки при жизни черту кланялись, на огонь молились, и вдруг после смерти подвергать их суеверным и грубым лжехристианским обрядам! Нет, у меня тут другая была забота. Позвал сотников и есаулов и велел объявить, чтобы никто из людей не смел на три сажени к чертовой падали подходить, а то я видел, что у моих казаков давно уж руки чесались пощупать их карманы, по своему обычаю. А ведь кто их знает, какую бы чуму тут напустили. Пропади они совсем!
КНЯЗЬ. Так ли я вас понял? Вы боялись, чтобы казаки не стали грабить трупы башибузуков и не перенесли от них в ваш отряд какой-нибудь заразы?
ГЕНЕРАЛ. Именно этого боялся. Кажется, ясно.
КНЯЗЬ. Вот так христолюбивое воинство!
ГЕНЕРАЛ. Казаки-то!?… Сущие разбойники! Всегда такими и были.
КНЯЗЬ. Да что мы, во сне, что ли, разговариваем?
ГЕНЕРАЛ. Да и мне что-то кажется неладно. Никак в толк не возьму, о чем вы, собственно, спрашиваете?
ПОЛИТИК. Князь, вероятно, удивляется, что ваши идеальные и чуть не святые казаки вдруг, по вашим же словам, оказываются сущими разбойниками.
КНЯЗЬ. Да; и я спрашиваю, каким же это образом война может быть «великим, честным и святым делом», когда, по-вашему же, выходит, что это борьба одних разбойников с другими?
ГЕНЕРАЛ. Э! Вот оно что. «Борьба одних разбойников с другими». Да ведь то-то и есть, что с другими, совсем другого сорта. Или вы в самом деле думаете, что пограбить при оказии – то же самое, что младенцев в глазах матерей на угольях поджаривать? А я вам вот что скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда – прямо предстал бы перед Всевышнего со своими тридцатью семью убитыми казаками, и заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником. Ведь недаром он там в Евангелии стоит.
КНЯЗЬ. Да. Но только вы уж, наверное, не найдете в Евангелии, чтобы доброму разбойнику могли уподобляться только наши единоземцы и единоверцы, а не люди всех народов и религий.
ГЕНЕРАЛ. Да что вы на меня, как на мертвого, несете! Когда я различал в этом деле народности и религии? Разве армяне мне земляки и единоверцы? И разве я спрашивал, какой веры или какого племени то чертово отродье, которое я разнес картечью?
КНЯЗЬ. Но вы вот и до сих пор не успели вспомнить, что это самое чертово отродье – все-таки люди, что во всяком человеке есть добро и зло и что всякий разбойник, будь он казак или башибузук, может оказаться добрым евангельским разбойником.
ГЕНЕРАЛ. Ну, разбери вас тут! То вы говорили, что злой человек есть то же, что зверь безответственный, то теперь, по-вашему, башибузук, поджаривающий младенцев, может оказаться добрым евангельским разбойником! И все это единственно для того, чтобы как-нибудь зла пальцем не тронуть. А по-моему, важно не то, что во всяком человеке есть зачатки и добра и зла, а то, что из двух в ком пересилило. Не то интересно, что из всякого виноградного сока можно и вино, и уксус сделать, а важно, что именно вот в этой-то бутылке заключается – вино или уксус. Потому что если это уксус, а я стану его пить стаканами и других угощать под тем же предлогом, что это из того же материала, что и вино, то ведь, кроме порчи желудков, я этой мудростью никакой услуги никому не окажу. Все люди – братья. Прекрасно. Очень рад. Ну а дальше-то что? Ведь братья-то бывают разные. И почему же мне не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин и кто Авель? А если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтоб ему больше не до озорства было, – вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Отлично помню, поэтому и вмешался, а если бы не помнил, то мог бы спокойно мимо пройти.