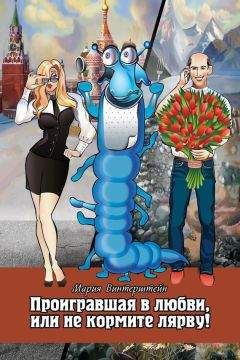Уильям Стайрон - Уйди во тьму
— Убирайся. — Лицо у него было красное, злое, упрямое. — Ничего хорошего из этого не получится, — сказал он. — Я пытался. Я много раз проходил через это.
— О’кей, — сказала я. Моя гордость. Потом я сказала: — Мне кажется, ты попытаешься понять. Я никогда так не поступала, кроме тех случаев, когда…
Он взял меня за локоть и подтолкнул к коридору.
— Хватит, — сказал он. — Тони тебя поймет. Расскажи Тони. Или расскажи своему старику — он посадит тебя к себе на колени и скажет, какая ты хорошая девочка. Что же до меня, то я этою набрался по… — И дверь за мной захлопнулась.
Я стояла в коридоре, держа сумку; его последние слова «по самое горло» прозвучали еле слышно, заглушенные стенами. Я высморкалась в платок, стояла и слушала его удаляющиеся, поскрипывающие по полу шаги. Потом шаги вернулись. Я затаила дыхание. Он открыл дверь и сказал:
— Вот, возьми свои часы.
Я почувствовала, как мне вложили их в руку — круглый полированный металл, рычажки и колесики, чтобы ими управлять; затем дверь закрылась, шаги стали удаляться, он ушел.
Я застучала в дверь:
— Гарри, впусти меня! Впусти меня! — И стучала, пока не поломала ногти. — Впусти меня, Гарри. Я буду хорошей девочкой!
Он не отвечал. Я пошла по коридору и вышла на тротуар, пошла на север, мимо цветочного магазина, где были выставлены красные канны, словно флаги в сумраке. В магазине горел свет, и я купила за монетку нарцисс и приколола его себе на грудь. Женщина была маленькая и полненькая, с веснушчатыми руками.
— Вы не хотите воспользоваться моей гребенкой? — спросила она.
— Нет, спасибо, — сказала я.
Я вышла на улицу, у меня не было ничего, включая часов, — их я отнесла в водосток у края тротуара. Я наклонилась и, вытащив их из сумки, поднесла к уху — в последний раз услышала их тиканье, весь мой порядок и всю мою страсть, собранные в этот шарик из атомов в обморочном, дремотном, вечном свете. Затем я швырнула их в водосток, услышала, как они загрохотали по занесенному туда гравию и мусору и со всплеском исчезли в глубине. Я выпрямилась — «по самое горло». Мне показалось, что я вижу старика, удящего рыбу в сумерках, его удочка свисала в мерцающую зеркальную воду, на самом же деле это была веревка, которую он просунул в решетку подвала, и он просил подаяние — бродяга приподнял шапку, когда я проходила мимо, и от него несло какой-то гадостью и виски. У меня осталось двадцать пять центов, и я дала ему две монетки по десять центов.
— Господь похвалит вас за это, — сказал он.
— Я знаю, — сказала я и пошла дальше. Меня стало клонить в сон — брат смерти часто посещает меня с напоминанием о смерти; зайка понял бы это, возможно, он понял бы и мой уход: не разведясь с чувством вины, я должна развестись с жизнью в эту часть времени и в этом месте. Я вернулась бы к зайке, но она никогда не позволит или не поймет. Я шла дальше, завернула за угол на Четырнадцатую улицу и пошла по ней к метро. У меня осталась монетка для турникета — я прошла. Они следовали за мной, чопорно вышагивая на своих негнущихся ногах и неся свои бесшумные, рябые крылья. Я повернулась. «Убирайтесь, — крикнула я, — убирайтесь», — но они вернулись, а женщина, проходившая мимо, взвизгнув, сказала мужчине, потевшему под кипой пакетов: «Совсем пьяная». — «Я не пьяная…» — сложились мои губы сказать, но я этого не произнесла и пошла вниз по ступенькам. Подошел поезд с этим ужасным грохотом; я зажала уши руками и смотрела, как он отправился на юг в исчезающем свете — лес поднятых рук, все наклонены под углом словно от ветра. И я подумала: «Это не он отринул меня, а я — его, и я весь день знала, что это произойдет, этим отказом от меня он осуществил первую часть моего желаемого, заслуженного акта смерти — моя голова теперь прилипла к плахе палача, топор высоко поднят, и я жду, когда он наконец опустится и совершит свое кровавое дело. О Господи, почему я отвернулась от Тебя? Неужели из-за какого-то зла, унаследованного в печальном столетии, я навсегда отрезала себя от Тебя и теперь, только умерев, должна обрести роковой шанс: войти в темный чулан, лечь там и заснуть, думая о моих грехах, надеясь проснуться на другой земле, при далекой фантастической заре? Не должно было бы быть так, чтобы я жаждала смерти или такой случайной, преждевременной участи, — ведь я еще молодая и красивая и более храбрая, чем Ты думаешь, Господи, и сердце мое бьется сильнее насоса, и я хочу быть полной любви, а не горя, в этот момент, когда моя душа из моего праха устремляется ввысь, к Тебе». Такую я произнесла молитву — я знала, что он не слушал, клеймя воробья, но не меня. В таком случае — к черту. Мне хотелось пить, но еще больше я была голодна. Я снова заглянула в сумку в поисках денег, надеясь их найти. Но денег не было. Тогда я сунула руку в карман юбки и обнаружила в шве, среди ниточек, цинковый цент. Я увидела машину с шоколадками четырех сортов и с зеркалом — я встала так, чтобы не видеть себя в нем. Я обнаружила, что там есть горький шоколад, и с орехами, и сладко-горький, и простой, и я решила взять горький, вложила в машину цент и нажала на ручку — ничего не выскочило. Я нажала снова, но шоколада не получила. Тогда я постучала по машине, но по-прежнему ничего; к тому же подъезжали и останавливались поезда, красные и зеленые огни загорались, указывая — остановка налево, остановка направо, как дома — кораблям, и тогда я решила сесть в поезд, думая о машине. Я села рядом с пуэрториканцем, читавшим газету; в жарком воздухе от него несло потом, но, думаю, не хуже, чем от меня теперь — скорее всего, и заголовок в газете был «Traficante Marijuana»[33], я отвернулась от него, думая о том, что выпила бы сейчас галлоны воды, думая о доме. Итак, мы ехали на север по Лексингтон-авеню. Экспресс на Вудланд-авеню, куда я, пожалуй, не поеду, а вот домой, если бы бабушка была еще жива, а не жила в давние времена, когда цвели жасмины. Трудно было вспомнить тот дом в Ричмонде — зайка всегда говорил, что он такой старый. Вокруг него стояли дубы — я их помнила, а также штокрозы; там безумно жарким летним днем он понес меня наверх и уложил в щебечущем странном свете на влажные, незнакомые простыни поспать — я слышала, как по булыжнику размеренно цокала лошадь и голос нефа вдалеке: «Цветочки! Цветочки!» Я даже видела его, когда мне было года три, или четыре, или пять лет: он роскошно выглядел в моих дремотных фантазиях, и мой мозг начинал работать в полусне — я видела его внизу, согнувшегося позади своей сонной кобылицы, черного как уголь, и с прутом, чтобы отгонять мух, со лба его катился пот, когда он мрачно хмурился, глядя на жесткий, здоровый хвост лошади, а позади их обоих под зонтом в горшках с мокрой землей стояли, кивая, бегонии, и сирень, и шпорник. Потом снова крик: «Цветочки! Цветочки!» — и замирающий стук копыт по булыжнику в моих снах на незнакомой постели, в незнакомом краю. И я подумала тогда: «Ох, зайка, что же со мной произошло, почему я так ненавижу себя сегодня; Алберт Берджер сказал, что я заблокирована на сексе, но я знаю нечто другое, так что, зайка, я скажу зануде Алберту Берджеру: вот полюбуйтесь — мы не были правильно воспитаны, и к моим воспоминаниям о цветах, и лете, и шпорнике присоединяется боль — это все моя смерть». Когда я легла в Ричмонде на бабушкину кровать, я увидела ее блаженно улыбающуюся фотографию на стене — в тот день я услышала, как цветочник проезжает, цокая по камням, под кедрами, — передвинулась и, приоткрыв глаза, уставилась, полусонная, на фотографию: лицо, которое однажды коснулось бороды Лонгстрита[34], хранящейся под переливчатым стеклом, по-прежнему улыбалось, держа за губой табак, и я протянула к ней руки, воззвав: «Мама, мама, мама!» — к этому изображению человека, который даже тогда уже двадцать лет как превратился в кости и прах. Поезд остановился на станции; в последнем вагоне не осталось никого, кроме пуэрториканца, пересевшего подальше от меня. Поезд помчался вниз по туннелю, где были рельсы, темнота и мерцающие красные глаза. Я положила голову на руки, думая о том, что хочу пить, думая о галлонах питьевой воды и о прохладной росе где-нибудь, об отдыхе на лужайке в тени мимозы, слыша далекий трубный крик чаек, или гром, или орудия. Я не могла думать — поезд, качаясь, уносил меня на север, и я молилась, хотя моя молитва, произносимая в поту и лихорадке и при внезапном спазме, от которого я чуть не села на пол, казалось, была адресована не Богу, а Алберту Берджеру, газообразному позвоночному, чьи глаза роняли странные красные слезы по всей обдуваемой ветром Вселенной. Поезд остановился на «Сто двадцать пятой улице»; я вышла среди толкающихся негров. Я стала пробираться вверх по замусоренной лестнице, уронила сумку. «Эй, леди, сумку уронили». Я не откликнулась, полезла дальше, вышла в сумерки, где навес над театром был расцвечен красными и голубыми круглыми лампочками и Ван Джонсон в тридцать футов высотой самодовольно улыбался вечеру. И тут я быстро пошла по авеню, минуя сутолоку, в тень, где было меньше шума. Я повернулась. Вокруг меня вздымались дома в саже. Я снова повернулась — лицом к улице: я подумала, что могу снова их увидеть, как они вышагивают по авеню — целая стая нелетающих, бескрылых, рожденных, чтобы нестись сквозь водянистые сумерки, словно покрытые перьями шары на пружинах. Я громко произнесла: «Нет», — и возле меня остановилась пожилая цветная женщина с круглыми белыми любопытными глазами. Я повернулась и побежала было, но слишком было жарко — я начала задыхаться и потеть, и в чреве снова возник спазм; я подумала: «О, Иисусе, смилуйся на сегодняшний вечер над твоей Пейтон не за то, что она не верит, а за то, что она… Ни у кого не было такой возможности, никогда». Тогда я перестала бежать и заставила себя успокоиться. «Смилуйся», — сказала я. Здесь на дорожке стоял высокий дом — дверь в него была открыта. К двери надо было подняться по трем ступенькам; я, пошатываясь, держась за перила, пошла вверх, и ступеньки подо мной оседали и скрипели, издавая запах пыли. В одном углу был лифт; в нем, под тускло горевшей лампочкой, дремал на табурете старик негр — вокруг его головы летала моль. Я на цыпочках прошла мимо него к лестнице. Затем я полезла по лестнице и, шагая по ступеням, подумала, что только из-за вины я могла оказаться в таком парадоксальном положении: ведь все души должны сначала спуститься, а уж потом взлететь вверх; только мы, самые вопиющие грешники, должны сбросить свои грехи самоуничтожением — должны взлететь, прежде чем окончательно сойти вниз. Я поднялась на семь пролетов лестницы и остановилась передохнуть, прислонившись к стене, обмахиваясь рукой; в коридоре пахло какой-то тканью — здесь была раскроечная, где работали негры, — тут было пусто, и темнота и опустение были пропитаны запахом хлопчатобумажного волокна и пыли, а также сильно пахло потом. Я стояла вытянувшись. У меня что, был компаньон? Я чувствовала, что кто-то наблюдает за мной — возможно, это была я сама, — по крайней мере я знала, что я не одна. Птицы на какое-то время пропали, и меня захватила мысль, что кто-то наблюдает за мной в темноте: друг или враг из другого времени, мужчина, женщина — не важно, даже возможно, это собака, — кто-то затаился в углу раскроечной, среди прессов и рам, вырисовывавшихся на фоне городских огней, и смотрел на меня горестными глазами. Я повернулась и снова пошла вверх, мимо стен с облупившейся штукатуркой, следами карандаша и водяными пятнами, выше и выше, сквозь все пронизывающий запах кислятины — точно в кладовке, куда я однажды зашла и где Ла-Рут обычно переодевалась: там стоял запах маринадов и лимонов, который смешивался воедино и ощущался в жарком воздухе, однако во всем этом был запах Земли, навсегда утраченной для меня, непосещаемой, невосполнимой. На каждой площадке висели лампочки, и вокруг них, словно бесконечно возвращаясь к свету своего рождения, летала туча мошкары — мошек было больше, чем я когда-либо видела, жирных и раздобревших на шерстяной ткани и отрезках материи при крое, и они на каждой площадке, словно ураган из обесцвеченных, несомых ветром лепестков, обрушивались на мое лицо. Я добралась до верха. «Кончено», — громко произнесла я. О, дай мне умереть. Я пошла по длинному коридору, натыкаясь в темноте на кипы курток, — я чувствовала на себе одетые шерстью руки, узнавала вечно окружавший меня запах: так пахли одеяла, и пушинки, и шерсть. Тут я подошла к двери. Света было достаточно, чтобы увидеть табличку: «ДЛЯ ЖЕНЩИН». Я распахнула дверь и вошла, касаясь ряда плит. Где-то в темноте забулькал унитаз, а я ощупью прошла к окну. Я села на радиатор под ним и стала смотреть на небо без звезд, освещенное огнями города, красное, словно раскаленная печка. Затем я встала, услышав далеко внизу отчаянный продолжительный гудок машины. Все это было благословенным успокоением — я стала раздеваться: сначала — платье; я вынесла его на верхний этаж, где я видела ящик для мусора, разорвала шелк в клочья, чтобы оно больше походило на лохмотья, и сунула его в ящик под кучу обрезков. Затем я вернулась в уборную. Я снова подошла к окну, сняла с себя остальное и бросила на пол. Потом я сняла туфли и чулки и, сунув их под радиатор, встала. Я была голая, чистая, хотя и потная, — такая, как пришла туда. Что-то в пространстве заставляло меня спешить: я снова услышала тот гром вдалеке, а может быть, это орудия — в общем, что-то над Явой или это пальмы на Лаккадивах в глубочайших, залитых солнцем морях. Что-то торопит меня, не давая времени на воспоминания, но я не могу задерживаться, чтобы вспомнить, ибо мной движет чувство вины, более сильное, чем воспоминания или мечты, более мрачное. Я молюсь, но моя молитва взлетает вверх, как оторвавшийся виток дыма: «О, мой Господь, я умираю». Это все, что приходит в голову. И «О, отец мой, о, мой дорогой» — любящая, одинокая, я лезу в твои объятия! «Пейтон, ты должна вести себя пристойно — хорошие девочки так себя не ведут, Пейтон». Я? Я вся развалилась — эта красивая оболочка? Возможно, восстану в другое время, хотя я ведь буду лежать во тьме и светом мне будет пепел. Я поворачиваюсь в комнате, вижу, как они вышагивают по плитам, слегка подскакивая, расправляя крылья; я думаю: «Бедные мои бесполетные птицы, вы страдали на этой земле, не имея возможности взлететь? Идите же и летите». И они проходят мимо меня по темнеющим пескам, неуклюжие и нежные, шелестя перьями. «Идите же и летите». И это происходит: они проходят мимо, касаясь моей кипящей кожи — легкий шелест перьев, и все… и я вижу, как они идут… О Боже!.. одна за другой мои нелетающие птицы поднимаются в душную ночь, летят в рай. «Я умираю, зайка, умираю». — «Но ты должна вести себя пристойно». А я говорю: «О, тьфу. О, тьфу. Благопристойно. Благопристойно. Ты должна быть могущественной».