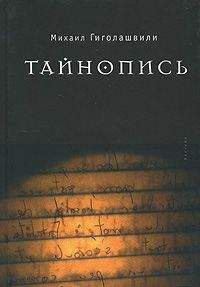Толмач - Гиголашвили Михаил
Но поздно – таблетки белой россыпью лежат в черном круге разлитой мочи… Не беда, собрать можно… Узнать бы, куда еду. Или куда везут. И, главное, кто везет?.. Собирая влажные таблетки, приглядываюсь к ящикам. Сверху донизу – иероглифы. Кроме «Made in Mongolia», ничего понять не могу. В картонах что-то позвякивает, постукивает, поскрипывает. Может, швейные машины в тавоте, а может – автоматы в опиуме. Или опиум в автоматах…
Натягиваю рубашку с мокрым рукавом, безрукавку, запиваю две таблетки водой из канистры, ложусь и накрываюсь какой-то жесткой кожей. Голова – на чем-то твердом… А, папка с моими бумагами… Сую ее поглубже под влажную от грязи подушку. И слушаю…
Позвякивает в ящиках… Бидончик трется о картон. Шуршит колбаса в корзине. Ревет мотор. И приливы бурого гула заливают уши, отдаваясь эхом под сводами черепа, переполняя его… И я, засыпая, понимаю, что первая капля, которая из него выльется, будет последней каплей жизни…
…Вдруг резкий удар в бок. Я опять на полу…
Машина стоит: тормоза еще отдуваются, но кузов уже замер. Что-то лязгает за ящиками. Я жду с тупым страхом. Сопение. Шорох раздвигаемого картона… В проеме – безволосая голова с китайскими глазами и козлиной бородкой. Она что-то лепечет. Потом появляются руки, они призывно машут: «выходить!». Я вытаскиваю из-под подушки папку, бумаги из нее рассовываю по карманам, а папку оставляю около корзины с едой.
Хомячок перестал жевать, попискивает в клетке, цепляясь лапками за прутья. «Куда его?.. Сам не знаю, куда… Китаец съест…» Беру кожаный полушубок и продираюсь сквозь раздвинутый холодный картон. С трудом вываливаюсь из грузовика.
Вокруг – серая слизистая темень, то ли утро, то ли вечер. Пустынное шоссе. Молчаливые угрюмые леса. А дальше – громоздкая гора, похожая на немую старуху в панаме. Съезд с шоссе ведет к зданию за забором. Здание напоминает огромный двухэтажный театр-шапито. Какое-то странное, крепостеподобное, замкообразное строение. Водитель-монголоид, карлик с редкой бородой тычет мне в грудь, потом – на здание:
– Лагерь! Азюль! Ялла!.. Лагерь! Азюль! Айда! Гяльбура!
Вдруг, что-то заметив в лесу, он лепечет:
– Воа!
Лоб его покрывается испариной, он спешно заскакивает в кабину и рвет с места.
Я всматриваюсь в лес, ничего не вижу, но понимаю, что надо идти. Схожу с шоссе и плетусь по дороге. Идти трудно – в асфальте кочки и выбоины. Даже пни попадаются. «Как по такой дороге машины ездят?.. – удивляюсь я, одновременно мучительно думая, куда иду и что мне там надо. – Лагерь?.. Азюль?.. А, лагерь!.. Убежище просить!» – начинаю я припоминать.
У ворот нахожу кнопку звонка и жму на нее, отчего вдруг во всех окнах вспыхивает свет и визжит сирена. Из ворот выскакивает привратник с длинным багром в руках. Да это же наш Бирбаух!.. Он бежит ко мне, крича:
– Бегите во двор! Не оборачивайтесь! Там воа! Опасно! – а сам спешит куда-то к калитке.
Я бегу во двор, слыша за спиной шум и рычание, но не оборачиваюсь. За мной, вместе с лязгом, вбегает Бирбаух, захлопывает ворота и сует мне какой-то предмет:
– Сувенир! На память! Willkommen in der Hölle! [73]
Я принимаю бугристый и витой обломок рога, от которого несет грязной шерстью и свежей землей:
– Зачем мне?
– Спрячьте, пригодится. Если змея укусит или яд какой-нибудь, то потолочь, выпить – и все пройдет, – советует мне Бирбаух, багром указывает куда-то за ограду: – Звери оттуда приходят, с горы…
– Что за звери? Что за гора?
– Гора Броккен… Вон, за лесом… Там и олени, и кабаны, и воа, и коалы, и верблюды – что угодно есть.
«Броккен?.. Это же гора мировой нечисти!..» – вспоминается мне.
– Мы что, в Нижней Саксонии, что ли? В Гарце?
– В нижней, самой нижней, ниже некуда… Даже подземной, – шутит он, багром сбивая темные плоды с дерева: – Ешьте! Ядовитые, но полезные!.. И пошли быстрее!
«Ядовитые сам ешь!» – мысленно отвечаю я и засовываю обломок рога в карман кожанки.
Привратник идет впереди и фонариком тщательно освещает путь, хотя света достаточно. На втором этаже, в оконных проемах, торчат какие-то одинокие, неподвижно-печальные силуэты в капюшонах, как на венецианском карнавале, что-то внимательно рассматривают во дворе. Из окон первого этажа слышны голоса, вскрики, плач, взрывы смеха.
– Веселое местечко! – говорю я.
– Поскорее, опасно! Воа всюду бродят! – подгоняет он меня. – Вам туда! И не забывайте – деньги делают несчастным и одиноким! Деньги – всегда проблема!
Я забегаю в дверь.
Очень большой зал, тысячи две квадратов, где бродит разношерстная толпа. Стены заляпаны черными отпечатками рук, как будто обиты кожей далматинских догов. Кое-где на стенах видны следы копыт и звериных лап. Откуда-то громкий щебет птиц. Ручьи разноязыкой речи… Всплески каких-то перекличек возле массивных дверей… Клубятся людские водовороты… Кого-то куда-то несут, переводят, перетаскивают… Стайки китайцев шныряют тут и там… Негры. Много носатых и узкоглазых лиц.
Я жмусь к стене, присматриваюсь: все люди с каким-нибудь изъяном: у этого руки висят до колен, у того – горб, кто скачет на костылях, кто сидит на полу, раздутый водянкой… Одетые в бурнусы инвалиды размахивают культями рук, у одного вместо ушей – черные провалы. Двое арабов на корточках едят, загребая трехпалыми руками, рис из коробочки. Рядом с ними – семья слепых: женщина в бельмах, ребенок с пустыми белками, мужчина с неподвижными зрачками. Старуха без глазниц что-то говорит им. Старик чутко тянет вверх незрячую голову в красной феске…
Птичий грай усиливается. Я смотрю вверх. Что это?.. Мелкая сеть растянута под потолком!.. Между сетью и потолком мечутся птицы. Их так много, что помет сыпется беспрерывным серым снежком на людей, а пол покрыт такой плотной массой, что прогибается под ногами, как резиновый. Птицы поминутно ссорятся и дерутся. Летят перья. Птичий щебет и гомон то громче, то тише. Летучие мыши мечутся черными точками над сеткой, гроздьями висят в углах лепного потолка, верещат и попискивают.
Трехпалый араб протягивает мне полупустую коробочку:
– Хочешь? У меня еще есть. – И выворачивает карманы халата, откуда сыпется рис.
Я жестом отказываюсь, иду сквозь толпу. Вдруг вижу, что рядом пробирается черноволосая женщина с младенцем на руках, еще два чернявых ребенка цепляются за ее цветастую юбку. Я же ее знаю!.. Это беженка Мирзада с ее беспокойными детьми, Бальбаганчи и Альбаганчи!.. Окликаю ее. Она, вздрагивая, но не оборачиваясь, исчезает за спинами мужчин, несущих на подстилке человека с багровым, словно ошпаренным, лицом.
Ближе к массивным дверям людей больше. Густо воняет потом, спертым кислым дыханием, нестираной одеждой. Я сталкиваюсь с каким-то здоровым бугаем. А, это папа Савчук!
– Вы? – радуюсь я знакомому лицу. – Что делаете тут?
Он доброжелательно жмет мне руку, шепчет:
– Визы продлевать хотели, да вот что-то творится… неладное… Говорят, визы не нужны будут, а Европа теперь – от Лиссабона до Владивостока… А я вот жену потерял, сына ищу…
Тут за дверным стеклом я различаю женское лицо. И оно мне явно знакомо… Кто же это?.. Знакомое лицо в любом случае отрадно видеть… А, да это же наша фрау Грюн!.. Но почему-то в траурном платье и в черном платке до глаз. Что-то читает. Я стучу в дверь, машу ей. Она вздрагивает, всматривается, потом жмет на невидимую кнопку. Дверь открыта. Я протискиваюсь внутрь.
– Здравствуйте, милая фрау Грюн! – говорю я. – Вы?.. Тут теперь работаете?..
– Да, сюда перевели. – Она оглядывает меня, принюхивается.
– А почему столько народу? – спрашиваю я, мысленно проклиная бидончик с мочой.
Фрау Грюн подозрительно смотрит на меня:
– А вы не знаете?.. Толмачи опять бастуют, на работу не выходят. Ну, а мы без них работать не можем – кто с этим сбродом объясняться будет? – Она брезгливо машет на дверь, за которой беснуется толпа. – Видите, сколько босоты со всего мира принесло?.. А мы – принимай!.. Бедная Германия!.. Armes Deutschland!