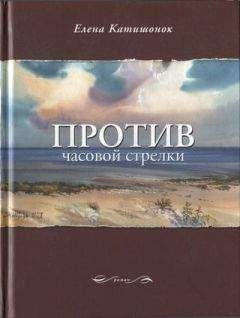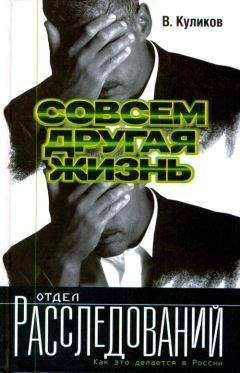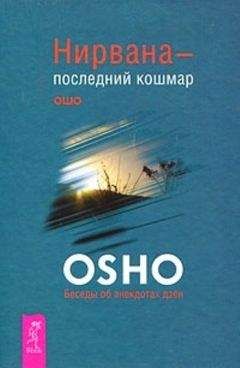Елена Катишонок - Жили-были старик со старухой
Окно, обрамившее для старухи внешний мир в скромную репродукцию Питера Брейгеля, пригласило в союзницы ширму: она ограничила мир внутренний, квартирный. Ни в столовой, ни на кухне Матрена больше не появлялась: не было сил. Обладавшая недюжинной силой Хризантема водила ее в комфортабельный нужник, и после этого похода старуха долго лежала без движения или впадала в забытье, пока боль не догоняла. Правда, когда все разъяснилось с Хризантемой, то пришлось… Однако лучше по порядку.
Началось с того, что сиделка пролила в кабинете спирт, причем извинялась так подробно и изысканно, что Ирине стало неловко: делов-то — паркет протереть; спасибо, что сестры в тот момент дома не было. Хризантема, сокрушаясь, сама затерла мастикой подсохший пол и, поднимаясь с колен, закашлялась, но вышитого платочка у нее, вопреки обыкновению, не нашлось. Впрочем, даже и найдись он, Ирина не могла обмануться: мастика честно пахла скипидаром, а сиделка — алкоголем, и верноподданнический аромат «Красной Москвы», не в силах помочь, сдал позиции.
Мамынька дремала; когда Тоня с дочкой и крестницей вернулись из «Детского мира», сиделки в доме уже не было.
Федя быстро соотнес непомерный расход спирта с дрожью в руках и красными глазами. Объяснился с Хризантемой коротко, но мучительно. Пьяницы всегда вызывали у Федора Федоровича брезгливость, а уж если женщина… нет, увольте. И уволил, стараясь не вслушиваться в сбивчивое оправдание, в лицо ей не смотрел и вообще не поднимал глаз выше буквы «А» на халате, превратившейся в абсолютно однозначный символ. Вытащил приготовленный бумажник:
— Сколько я вам должен? — и, наткнувшись на просящий взгляд, понял: — Нет, конечно; это останется между нами. Однако я как медик… — и, махнув рукой, начал отсчитывать кредитки.
В дверях Хризантема помедлила.
— Доктор, — сказала, натягивая перчатку, — правая ручка у тетеньки, там вена очень плохая; пусть в левую колют, будьте добры сказать.
И легко понесла по ступенькам свое громоздкое тело.
После изгнания сиделки Федору Федоровичу стало, вопреки ожиданиям, вовсе не легче: не покидало ощущение какой-то кривды. «С ее опытом найти работу — раз плюнуть», — утешал он себя, а внутри звучали непривычные, дурацкие, трогательные слова: «правая ручка у тетеньки». Он угрюмо взглянул на растерянную Иру:
— Ну и как тебе это нравится?.. — и вдруг, ужаленный страшной догадкой, в панике бросился в кабинет.
Слава Богу, все ампулы на месте. «Впрочем, на халате „А“, а не „М“», — невесело пошутил он сам с собой, но тяжелая неловкость не оставляла.
— Ира!.. — позвала мамынька.
Федор Федорович неосознанно взглянул на локтевой сгиб: ни одного кровоподтека. Н-да. В комнату спешила Ирина; одновременно хлюпнула входная дверь: вернулась жена, и Феденька пошел сдаваться.
Разрешилось мучительное недоумение, нашелся парный носок! Оказывается, Тоня «как чувствовала»; поэтому совершенно не удивилась и все действия мужа одобрила безусловно.
— Надеюсь, ты ей не платил? — она воинственно кряхтела, стаскивая тугой, попискивающий ботик, и Фединого лица не видела. — Мне эта особа сразу не понравилась, я как чувствовала. Это же подумать только!
Жена радовалась, что восторжествовала справедливость, и радость была отравлена только одним обстоятельством: произошло это в ее отсутствие.
Ночь прошла очень тяжело. Укол Феденька сделал вовремя, но с «левой ручкой» возился долго и результатом остался недоволен: навык навыком, а в челюсть колоть несравненно легче. И вообще все пошло наперекосяк. Поход в туалет обрастал немыслимыми подробностями: иссохшая, скрюченная адской мукой старуха стыдливо шептала: «Как же можно?! Он мужчина!.. Хризантему зови…» Мамынька висела на Тоне, а ту, в свою очередь, поддерживал муж, с ужасом чувствуя, что впадает в ересь, ибо впервые в жизни чуть не усомнился в греховности пьянства.
Придя из клиники, застал около мамыньки Иру; жена уснула. Старуха капризничала:
— На кой прогнали? Она дело-то вон как знала! Пока меня Господь приберет, вы тут совсем с ног собьетесь… Ну да скоро уже.
Невозможно было поверить, что старуха поменяла свое откровенно неприязненное отношение к сиделке; похоже, однако, что это было именно так. Придираясь, пророчествуя и критикуя, Матрена освоилась с ней, как прежде освоилась с неизменным видом из окна, с неподвижными складками штор или с той же ширмой. Она так привыкла, возвращаясь из покойного сна в мучительное умирание, видеть за письменным столом монументальную вышивальщицу с игрушечными пяльцами в руках, что теперь, когда обжитой интерьер нарушился, огорчилась и растерялась; примерно то же ощущает гурман-меценат, обнаружив, что в музейном зале картины поменяли местами, а любимый натюрморт отправили в запасник. Старуха привыкла с ворчаньем принимать микстуру из мензурки, походившей в пальцах Хризантемы на наперсток, как привыкла, что вторую мензурку — уж, конечно, не с микстурой — та выпивает сама, непременно промокнув губы вышитым платочком.
— Ну так что вам с того? — слабым, но требовательным голосом спрашивала она. — Папаша тоже любил выпить, а дело делал! Вон, забегались, ровно кошки на пожаре…
Обижаться было и неуместно, и некогда. За справедливость приходилось платить очень дорого. Один укол — это было, как говорила мамынька, «курам на смех», а днем зять работал. Оставалась «скорая помощь», но это означало для Тони оставить мать одну, добежать до телефона-автомата, набрать «03», объяснить ситуацию, вернуться и ждать помощь, почему-то называемую «скорой», не говоря уже о том, что обе старухины вены через два дня расцветились, как она сама выразилась, «что яйца на Пасху».
— К свиньям собачьим такую помощь, — вынесла приговор старуха, отдышавшись, — и такое лечение. Дайте спокойно помереть. Ирка, Ирочка моя! — тянула к Тоне слабую, исколотую руку — после морфия она иногда путала дочерей, и это странным образом Тоню успокаивало.
Начался март. Старуха ворчала:
— Это у вас март, а у людей только-только середина февраля, — и сейчас ей особенно хотелось, чтобы помешкал немного торопливый февраль, когда она могла так много.
Недуг пригвоздил старуху к постели и уже не позволял встать, дав понять, что теперь иначе не будет. Мир еще сузился, ограничив ее подвижность уже не ширмой, а рамой кровати.
Вопреки обыкновению, Федор Федорович посовещался не с женой, а с Ириной, и снова привел сиделку. Тоня встретила Хризантему строгим взглядом и неровными пятнами на лице, а та, облачившись в халат и шапочку, спокойно вернулась к работе, словно не пропускала ни дня. Даже вышивка на пяльцах была натянута та же самая: очаровательный бутуз с лукавым взглядом, восседающий на горшке щекастой попкой под готической немецкой надписью синим мулине: «СТАРАЙСЯ, ДРУЖОК!»; мастерица как раз приступила к орнаменту. Да и что, собственно, случилось, не плакать же о пролитом молоке, то бишь спирте, в самом деле?