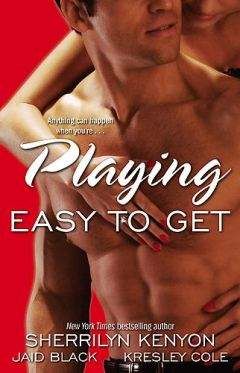Леонид Бежин - Чары. Избранная проза
В этом, собственно, и родство
Таким отслоившимся и отпавшим я и чувствовал себя, слоняясь по двору, и моя любовь-бусинка тускло поблескивала в щели пола Маленькая, стеклянная — в щели между досками: может быть, тогда-то мне и открылся в любви этот странный экзистенциальный отсвет, похожий на болотное зарево, на блуждающий огонек, на пляшущую в воздухе искорку. Открылся, чтобы затем дразнить, показываясь то справа, то слева, заманивая и зазывая: иди, иди, не бойся. Если послушаешься и пойдешь, то и конец тебе: назад уже не вернешься — сгинешь в топких болотах, завязнешь в зыбкой трясине, и даже следов твоих никто не найдет. Если же не послушаешься, то задразнит, засмешит, заморочит, и какая там любовь — рассудок бы не потерять!
Признаться, и я терял рассудок. И всякий раз это случалось не от любви, а от поддразнивающих сомнений: вот словно бы и влюблен, и счастлив, и с нетерпением ждешь назначенной встречи. Но в то, же время все происходящее с тобой, влюбленным и счастливым, словно бы отбрасывает некий отсвет, который тревожно высвечивает в тебе — на самом донышке сознания — обманчивую мысль, что не очень-то ты и влюблен, и не особенно счастлив, и не с таким уж нетерпением ждешь. И назначенная встреча вызывает в тебе необъяснимое, бредовое желание убежать и спрятаться за угол дома. Мысль, повторяю, обманчивая, и от бредового желания, казалось бы, так легко отмахнуться. Но она навязчиво преследует, внушает тебе, что ты пойман, что ты в ловушке и пропала твоя буйная головушка. Убежишь как миленький и спрячешься за угол дома. Спрячешься, затаишься, а затем еще этак незаметно выглянешь и посмотришь: а что поделывает любимый человек? Очень уж тебе любопытно: что? Стоит, прислонившись спиною к фонарному столбу, в недоумении озирается по сторонам или кружит по площади, сверяя маленькие ручные часики с большими уличными часами? И какое у нее при этом лицо — удивленное, обиженное, встревоженное или мстительно-спокойное? Очень уж любопытно — какое?
А главное, касается ли его загадочный отсвет — тот же самый, которым отмечено, озарено и твое лицо? Да или нет — для тебя это очень важно! Настолько важно, что, если да, касается, ты готов выбежать из-за своего укрытия и броситься к ней в объятия, осыпая поцелуями ее руки и вымаливая прощение за пятиминутное опоздание. Вымаливая и клятвенно заверяя, что ты ждал, мечтал, стремился, изнывал от нетерпения увидеть. Если же нет, то опоздавший так и будет подпирать стену дома, спрятавшись за его углом и уткнувшись лбом в холодный камень, пока любимый человек не сверит напоследок часы, не вздохнет с безнадежным унынием и не канет в провал метро. Вот что такое отсвет — в нем-то, уверяю вас, и таится загадка любви или того самого избирательного сродства, которое властно влечет вас к любимому человеку. Да, мы выбираем людей, зацепившихся за жизнь тем же способом, что и мы сами, — в этом, собственно, и родство. Родство двух пожелтевших, окаймленных багрянцем дубовых листьев, сорванных ветром и — зацепившихся. Зацепившихся и повисших на лесной паутинке — вот вам и вся любовь! Давайте говорить проще: не любовь, а экзи… экзистен…
Экзистенция, милостивые государи, ядовито-зеленый отсвет!
Вот, почему вдвоем вам бывает так одиноко, отовсюду корчит плаксивые рожицы тоска, и хочется подпереть собою какую-нибудь стену и уткнуться лбом в холодный камень. Холодный и ноздреватый — как сама жизнь. Уткнуться и никого не видеть. Не видеть и не слышать. И в тот самый момент, когда действительно — никого, почувствовать, как вам хорошо. Хорошо оттого, что плохо и хуже быть не может. Предельно, до конца, до донышка хорошо, а уж это чувство — будьте уверены! — истинное…
Объяснимое и даже похвальное…
Но бывает и так, что в одиночестве вы совсем не одиноки, и тоска не корчит плаксивые рожицы, и вам не хочется подпирать собою стену, и все происходящее с вами отбрасывает совсем иной — голубоватый — отсвет. Голубоватый, струящийся, похожий на бледное зарево рассвета. Тот самый отсвет, который мы называем евангелическим. Он касается вас, милостивые государи, и ваше одиночество скрадывается, словно клубящаяся, кл䬟чковатая ночная тьма, и вам становится так хорошо, что от этого даже делается плохо. Плохо оттого, что хорошо и лучше быть не может, — тоже, знаете ли, предельное чувство. Предельное и истинное, оно знакомо всем экзистенциалистам — в том числе и мне, слоняющемуся по двору в отчаянном и безнадежном сознании того, что Галя Кондратьева сегодня не пришла в школу.
Сегодня не пришла… сегодня не пришла, говорю я себе, и вдруг — голубоватый отсвет! — мое безнадежное сознание рассеивается, и я понимаю, как это хорошо, прекрасно, великолепно, что не пришла сегодня. Не пришла сегодня — значит, придет завтра, а сегодня — я сам к ней приду. Возьму и приду — как это просто, ведь я ничего не боюсь, и меня ничто не остановит! Я чувствую такую бесшабашную уверенность в себе, что готов расхохотаться, взвизгнуть, пискнуть, отбить чечетку, пройтись по земле колесом! Я знаю, что Галя Кондратьева живет в соседнем восьмиэтажном доме со львами! За аркой сразу налево — угловой подъезд. И я могу подняться к ней в зеркальной кабине лифта с перламутровыми кнопками на дубовой панели! Могу позвонить в высокую дверь с начищенной медной ручкой, терпеливо дождаться, когда щелкнет замок и звякнут цепочки, вежливо поклониться в ответ на недоверчиво-хмурый взгляд из дверного проема и с выражением скромного достоинства произнести, что хочу сообщить ей, какие нам заданы уроки.
Сегодня она пропустила, и я хочу сообщить — вполне объяснимое желание для товарища по классу. Объяснимое и даже весьма похвальное: так и должны поступать примерные товарищи, верные друзья, хотя их еще не познакомили с мамой, не представили папе и бабушке. Не познакомили, не представили, но они — должны. Поэтому, охваченный лихорадочной, взвинченной решимостью, я поднимаюсь на лифте, звоню, вежливо кланяюсь и говорю. Говорю и в этот самый момент вспоминаю, что завтра — праздник и поэтому никаких уроков нам не задали. Тут они все стоят в выжидательных позах — Галя, ее мама и бабушка, а я вспоминаю с паническим ужасом, с обморочным головокружением и ватной слабостью в ногах, но все равно говорю. Говорю и даже для убедительности расстегиваю портфель, явно собираясь достать дневник, в котором записано домашнее задание. Расстегиваю и шарю в нем дрожащими руками, извиняющейся улыбкой показывая, какой у меня там беспорядок.
Беспорядок, знаете ли, мне и самому стыдно, но я шарю, шарю, покрываясь испариной на лбу. Уф, как жарко, какая у них тут парилка! Но где же этот чертов дневник?! Где же?! Где?! А они все стоят в тех же выжидательных позах и недоуменно переглядываются! Я понимаю, что больше шарить нельзя, выпускаю из рук портфель, и моя извиняющаяся улыбка обреченно застывает на лице. Теперь всем становится ясно, что я оконфузился, с позором провалился. Я выпрямляюсь, бормочу что-то бессвязное, хватаю портфель и опрометью выбегаю вон, слыша за собой изумленные восклицания мамы, охи и ахи бабушки, и возмущенный возглас Гали: «Сумасшедший какой-то!»
Выбегаю, скатываюсь с лестницы, дымящимся пушечным ядром вылетаю из жерла подъезда и в трезвом сознании своего сумасшествия пишу крошащимся, стертым, выпадающим из рук мелком на серой каменной стене восьмиэтажного дома: «Галя, я тебя люблю!»
Глава восьмая
ТАК МЫТАРЬ ЛЕВИЙ СТАЛ АПОСТОЛОМ
Пусть она прочтет!
Эта надпись цела и поныне, и я каждый раз смотрю на нее, совершая свои визиты и записывая в книжечку ответы тех, кто некогда жил по соседству с нами. Смотрю и с замиранием сердца думаю: надо же, прошло столько лет, а вот она, надпись, цела-целехонька, хотя выцвела и поистерлась, конечно, но все равно при желании можно прочесть: «Галя… я тебя… люблю!» Можно, можно — при желании, надо только подойти поближе и вплотную наклониться к стене, козырьком приставив ко лбу ладонь. Тогда и различишь следы крошащегося мелка на ноздреватом сером камне. И до головокружения странно станет от мысли, что это тот же самый мелок, который когда-то выпадал из твоих рук. И стена восьмиэтажного дома — та же самая, правда сам ты уже не мальчишка, пушечным ядром вылетевший из подъезда, а человек с бородкой провизора, крапленным пигментными пятнами лбом, седыми висками и морщинами в уголках глаз.
Да, собственно, и годы сейчас не те, пятидесятые, а о-го-го какие, и выговорить-то страшно! Не шестидесятые, не семидесятые, не восьмидесятые, а — о-го-го! Пятидесятые же остались там, вдалеке, где дымится жерло распахнутого подъезда и ты, мальчишка, выцарапываешь крошащимся мелком: «Галя, я тебя…» Выцарапываешь с бесстрашной решимостью — чтобы все видели, и каждый мог прочитать. Каждый, кто проходит мимо, и в том числе сама Галя, в чьем присутствии я бы никогда не решился произнести: «…я тебя люблю!» Не решился бы и самым тихим шепотом, почти неслышно раскрывая губы, даже не произнося, а лепеча, немо обозначая эти слова обморочным шевелением губ. Написать же, да еще на стене соседнего дома — пожалуйста! Пожалуйста — пусть она прочтет! Прочтет и узнает, что я ее люблю, иначе мне этой любви уже не вынести, не удержать в себе, и она вот-вот вырвется из рук и улетит, подхваченная ветром, словно голубой воздушный шар на розовой нитке. Да, пусть узнает, но только не от меня, ведь я запинаюсь и краснею, отчаянно пытаюсь выкарабкаться из неловкого положения и на каждом слове со сладким ужасом падаю в бездну. Поэтому пусть узнает от самой стены, холодной, неподвижной и безучастной, не испытывающей ни ужаса, ни отчаяния.