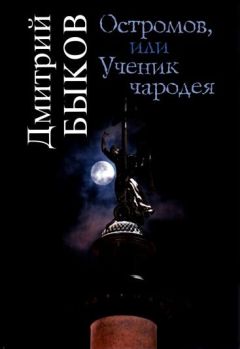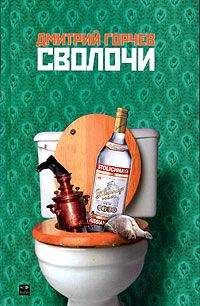Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
— Да, да, именно! Вот это — совершенно так! — И хорошо было то, что она не стала пережидать лицемерную паузу, будто «давая отзвучать», как всегда делают дилетанты, которым сказать нечего. — А это ты знаешь? Я сама не знаю, чье, но этим же стихом — я не знаю, как он называется…
— А он самый лучший, им когда-нибудь будут писать все. Рифма останется для чего-то совсем прикладного — вроде считалки.
— Наверное, так. Хотя мне жаль рифму. Но вот слушай:
Что нам делать, Раввуни, что нам делать?
Пять тысяч взалкавших в пустыне —
а у нас только две рыбы,
а у нас только пять хлебов?
Но Ты говоришь: довольно —
Что нам делать, Раввуни, что нам делать?
На Тебя выходят с мечами,
а у нас два меча, не боле,
и поспешное Петрово рвенье.
Но ты говоришь: довольно —
А у нас — маета, и морок,
и порывы, никнущие втуне,
и сознанье вины неключимой,
и лица, что стыд занавесил,
и немощь без меры, без предела.
Вот что мы приносим, и дарим,
и в Твои полагаем руки.
Но Ты говоришь: довольно.[25]
— Чудесно, — сказал Даня, улыбаясь. — И все-таки не довольно.
— Да, тебе видней, конечно…
— Не знаю. Скажи, а у тебя когда-нибудь получалось это упражнение — перевернуть дагерротип, поменять местами…
— Нет, и неинтересно. У меня как следует получалось только одно — с невидимостью. Он учил тебя?
— Не отражать лучей? Да. Я примерно понимаю, как это. Вся штука в том, чтобы выбрать ракурс…
— Нет, нет. Это невозможно. Штука в том, чтобы сказать себе: меня нет. Просто себя вычесть. Я попробовала однажды в трамвае, очень интересно. Напротив сидел малый в кепке, весь приплюснутый и промасленный, как эта кепка, и смотрел на меня, и вдруг я вижу — у него на лице странность. Не в смысле «странное лицо», а в смысле полное удивление, как будто случилась вещь, которая никак не совместима с трамваем, и с ним, и с его кепкой. А это просто я себя вычла. Хочешь, попробуем?
— Нет, не хочу, — сказал он очень серьезно. — Никогда, ни в коем случае. Пожалуйста.
— Ладно, не буду, — согласилась она. — Я тоже не хочу.
Несколько шагов прошли молча.
— Как дети, — сказала она. — Детские такие прогулки со стихами.
Ему почудилось в этом недовольство, он остановился и обнял ее, почувствовав прохладу и скрытое тепло ее щеки и тончайший домашний запах, шедший от свитера.
Ласка в это время не поощрялась, поколение стыдилось объятий. Пролетариат этого попросту не умел. Поцелуй объявлялся пережитком, негигиеничным и постыдным, а действовать предлагалось сразу, нахраписто, не тратя времени на прелюдию. То есть совокупляться было не стыдно и гигиенично, а целоваться — стыдно и заразно, потому, видимо, что могло производиться публично, а этого, конечно, пролетариат допустить не мог. Когда в двадцать шестом году на улицах целовались, тут же набегали беспризорники с воплем «Лижутся!» — или останавливался пожилой заводчанин, дабы произнести вслух краткую, отрывистую лекцию о недопустимости. В двадцать шестом поцелуй был неприличней уличного соития, случись оно вдруг, — потому что он свидетельствовал как бы о слабости: гладить, обнимать, держать за руку считалось позором, нормой было брать штурмом. И первый мужчина Нади Жуковской, давно, год назад, не признавал никаких нежностей, стыдился, считал их чем-то вроде онанизма. Надя однажды погладила его по голове, так он покраснел и буркнул «Не надо». Но что мы будем вспоминать всяких дураков?
Даня чувствовал совсем не то, что с Варгой: с Варгой был прежде всего страх сделать нечто не так, а здесь — мгновенная уверенность в том, что теперь все будет как надо, иначе невозможно. Можно было все. Он боялся сначала подбираться к ее губам, но не удержался, и все получилось удивительно легко и созвучно, и вдобавок они были одного роста. Она запустила холодную ладонь под его рубашку, и некоторое время они просто стояли молча — «влюбленные лошади», прошептала она, и он засмеялся, тоже шепотом.
— Ладно, завтра, все завтра, — сказала она наконец слегка севшим голосом.
— Ну постой еще, — сказал Даня умоляюще.
— Все завтра. Я чувствую, что нельзя сразу. Ты думаешь, мне легко отлипнуть? Ужасно не хочется, ужасно, ужасно. Но ты ведь будешь завтра?
— Приду, конечно.
— Я не собиралась, но приду. В восемь, да?
— Да, в восемь.
— Но ты придешь?
Он снова полез целоваться, она не отворачивалась.
— Завтра, завтра.
— Да, завтра.
— Ну все! Завтра.
— Завтра.
Он стоял у подъезда, ничего не понимая. Она выбежала обратно.
— Мне все кажется, что ничего не было.
— Очень хорошо, ты очень правильно сделала.
— Ну завтра, завтра.
— Да, завтра.
4У себя в комнате Надя сразу легла на живот, потерлась щекой о подушку и стала разговаривать с Даней в полной уверенности, что он услышит.
— Ну вот, считай, что ты в гостях, — сказала она. — Я ведь скоро буду тебе показывать комнату. Может быть, уже завтра. Так что привыкай.
Он огляделся и что-то сказал, она не расслышала.
— Говори яснее, — сказала она обиженно. — А в общем, нет, все не то. Я буду за тебя выдумывать, это неинтересно. Лучше молчи.
Он одобрительно кивнул: другой нам затем и нужен, что мы не можем выдумать его. Все равно он не наш, а свой собственный, и это ей нравилось отдельно. Только очень все быстро, так нельзя. Но почему нельзя? Чудо должно быть сразу, в постепенные чудеса, о которых столько говорила миссис, Надя не верила.
— Я говорила с тобой неправильно, — сказала она. — Я все пыталась казаться кем-то, иногда я защищалась. Надо было просто рассказывать, показать свою жизнь, пустить в нее, как пускают в дом. Но вот смотри. Вот мистер Кэт. Его принес отец. Он сидит и смотрит с таким видом, как будто говорит: «Мир сошел с ума». На него иногда в детстве сажали плюшевую мышь, чтобы это выражение сделалось как-нибудь объяснимо. Мир сошел с ума, потому что у меня на носу сидит мышь и ничего не боится. Вот английская «Алиса», я училась по ней с миссис, мне никогда не нравилась эта книга, но она связывалась с миссис, а она была совершенно волшебная. Вот доктор, его принесли, когда я болела. Он заводился, водил рукой по столу, выписывал снадобье. Мама его заводила, когда я заболевала. А потом он сломался, и я перестала болеть навсегда. Я действительно, святой истинный крест, никогда ничем не болею. Я страшно сильна и вынослива. Женя говорит, что я девочка Зима и что он напишет пьесу про зимнюю девочку, которой никогда не холодно. Это доктор мне отдал всю свою силу и сломался. Если его починить, я немедленно слягу. А ты говоришь, что вещи держат в плену. Может быть, но тогда я просто распадусь без этого плена. Если не любить вещи, не любить уют, начнется тот холод, которого в мире и так слишком много. Все счастье в этом тонком тепле, в тончайшем его слое, оно паром ложится на ледяные окна. Нагревать, закутывать, и если угодно, даже покрывать плюшем. Ко всему привязывать бантик, на всем рисовать цветочек. Как же иначе?
Он что-то буркнул.
— Ну да, — сказала она, — естественно. Есть и это тоже, и к этому надо быть готовым. Но это не значит же — так? — что надо заранее отдавать все. Когда все отняли, конечно, можно идти по снегу босиком, и желательно при этом улыбаться, хотя ты скажешь, наверное, что лучше гнусно ухмыляться. Это менее жалко выглядит. Ты вообще очень боишься всего трогательного, как я погляжу. Но только в этом трогательном и заключается смысл, потому что только это привнес человек, все остальное без него было. Все эти горы и эти вот твои любимые пустыни.
Она нахмурилась.
— Но правда-то заключается в том, — она избегала говорить «христианство», ей это казалось дерзновенным, — чтобы какую-то вот розочку на все это, какого-то мистера Кэта… Какой-то пузырь тепла среди сплошного холода, просто надышать его вокруг себя, а зачем же еще? Ты видишь другие цели? Я никаких не вижу… Один мальчик говорит, что после снегопада воздух нагревается от того, что снежинки об него трутся. На самом деле все наоборот, это снегопад бывает от того, что как-то там нагревается. Все на свете, — сказала она голосом миссис, — имеет естественнонаучное объяснение. Кроме того, разумеется, — добавила она уже своим голосом, — что его не имеет.
Она перевернулась на спину.
— Но мне нравится думать, что воздух нагревается от трения, и я тоже иду, как снег, меня никто не спросил, а просто я пошла. И я нагревая воздух. Тебе все это не кажется сюсюканьем? Я не вижу никакого смысла, кроме сюсюканья. Ничто не способно к сюсюканью, ни пейзаж, ни даже вот, например, лиственный шелест, хотя тополь во дворе и говорит что-то подобное.