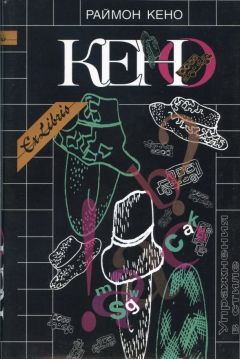Раймон Кено - Упражнения в стиле
Персонажи, средства автобиографического выражения Кено, поочередно заимствуют характерные для него черты: Пьеро оказывается близоруким («Мой друг Пьеро»), от астматического Зла страдает Луфифи («Вдали от Рюэля») и Даниэль («Дети Ила»); духовными поисками заняты Жак Л’Омон («Вдали от Рюэля») и Валантен («Воскресенье жизни»). Вместе с тем, по-своему отражая каждую авторскую грань, они живут своей, часто непредсказуемой жизнью. В каждой фиктивной жизни Кено сознательно смешивает две различные функции: «Персонаж романа, даже если он не выразитель намерений автора, не может быть совершенно ему чужим, (...) но если автор решает сделать его своим глашатаем, персонаж от него ускользает»[141]. Трускайон, он же Арун ар-Рахис — полицейский и сатир в одном лице, — как нельзя лучше выражает отношение Кено к своим героям: «Я есть сущий, тот, которого вы знали, но порой не узнавали. Князь мира сего и окрестностей. Я люблю бродить по своим владениям в разных обличьях, облекаясь в одежды сомнительности и ложности, каковые, кстати сказать, присущи мне». И действительно, автор этого романа и многих смежных книг награждает своих персонажей неуверенностью и ошибочностью, присущими ему самому. «Я распыляюсь», — признается Кено в «Дневнике»; распыление происходит через множественность персонажей и соответственно точек зрения, которое благодаря различию каждого виртуально выявляет единое целое. Нет персонажа, который мог бы претендовать на привилегированное положение и бóльшую «отражаемость» автора. Кено выбирает плюрализм высказываний и запрет на субъективную экспансию «я», которая была бы единственным голосом текста. Авторское «я» составляется из последовательных импрессионистических мазков; многоголосие образует сложный, но единый хор.
Отношение Кено к своим героям довольно противоречиво: «порой персонажи ускользают от воли автора: ведь человек выскользнул из рук Бога, своего Творца, чтобы грешить. Что на это говорит автор?»[142] На первый взгляд может показаться, что персонажи освобождены от авторской опеки и действуют самостоятельно, автор не вмешивается в их полемику и воздерживается от каких-либо оценок. Распыленные осколки личности автономны; каждый дает свою точку зрения. То, что Кено пишет о Джойсе и Гертруде Стайн, может быть приложимо и к его творчеству: он также «стремится к типизации, универсализации через индивидуализацию»[143]. Невозможно проиллюстрировать этот принцип более показательно, чем это сделано в «Упражнениях в стиле». В этом произведении индивидуум Кено устраняется или скорее прячется за множеством индивидуальных рассказчиков, из которых каждый предлагает собственное субъективное видение и описание, зачастую противоречащие другим. Лишь совокупность разных точек зрения (прочтения) дает обобщающий и обобщенный образ объективности, другими словами, тотальную объективность, к которой взывал Флобер.
Парадоксально то, что, стремясь к «распыляемости» и тотальной объективности, автор не перестает подчеркивать собственную писательскую деятельность. Так, осознавая значимость своей роли, он вплетает себя самого в ткань повествования и постоянно извещает о своем присутствии. По примеру Рабле Кено постоянно вмешивается в рассказываемую историю, используя различные и порой самые неожиданные приемы. «Репейник» является настоящей копилкой подобных отступлений: « — Это не я выдумала, — сказала королева. — Это в книге. / — В какой книге? — спросили два кузнеца. / — Ну, в этой. В той, где мы сейчас, которая повторяет то, что мы говорим, по мере того, как мы это говорим, и которая за нами следует и нас рассказывает; настоящий бювар, что приклеили к нашим жизням»[144]. Прописывая персонажей, автор удерживает их в рамках повествования и навязывает им их несчастья: « — ...Ну, до чего же противно это все написано, вот, все, что только что написано. Черт! / — Ну, так надо вырезать этот эпизод, — доброжелательно обронил Этьен. — Надо его стереть. / — Листературеть, — добавил Сатурнен. / — Это невозможно, — сказала г-жа Клош. — Дело сделано. А сделанного не вернешь. Какое горе!»[145] Кено использует всю гамму стилистических находок, всячески подчеркивая свое участие. Так, например, он дополняет пунктуацию и создает возмутительный знак: «Oii — это возмутительный знак» — или прибегает к собственным оценкам и комментариям, заключая их в скобки: «(Черт-те что!)», «(Это же надо!)», «(Никогда бы не поверил!)»... Автор может отстраняться от философского, педантичного языка своих персонажей: «(Ну и формулировка!)», литературных клише: «(так пишут в романах)», «(как говорит приличная публика)» — и чрезмерно категорических заявлений: «(Это еще надо проверить)». Перечисляя предметы, Кено может спросить читателя и себя самого, не упустил ли он чего-нибудь: «(Ах да! Вот еще что...)» — или поставить под сомнение только что написанное: «(Это неправда)». Кено постоянно подчеркивает фиктивный характер текста, разрыв между временем написания, повествования и чтения: «она научила их играть в (здесь название игры, которая была в моде три года назад)»; раскрывает принцип письма («Четыре, пять, шесть капель воды. Люди, беспокоясь за свою солому, поднимают лица к небу. Описание грозы в Париже. Летом»), обнажает литературную конструкцию («Наблюдатель встает и уходит, не заплатив (он еще вернется)»). Это позволяет Кено играть с читателем и даже входить с ним в писательско-читательский сговор («Это была, самые смышленые, конечно же, угадали, машина Пьера»), а также отсылать его к материальности читаемой книги («как мы только что видели», «как уже говорилось», «как это описано в предыдущей главе» и т. п.). Проявляясь по-разному, автор постоянно присутствует в произведении. Но дистанция, которую он соблюдает по отношению к мизансцене, развенчивает устоявшиеся представления о писательском назначении.
Таким образом, Кено предлагает по-новому относиться к литературному тексту: если произведение — продукт сознательной и осознанной работы писателя, то в свою очередь должен трудиться и читатель. Несмотря на культурные и исторические различия подходов, в этом своеобразном контракте ни одна сторона не оказывается обманутой. Писательская деятельность должна вовлекать в литературный процесс всех участников: автора, произведение и читателя. Достаточно послушать консьержа Сатурнена, рассказывающего о муках литературного творчества: «И все равно, кроме шуток, мое великое произведение продвигается. А? Посмотрите на номер страницы вверху справа и сравните с номером последней страницы, так вот, не так уж и много осталось прочесть, ведь правда? Одни будут довольны. Я даже отсюда их вижу, этих лодырей и лентяев. (...) Но есть и другие, те, что скажут: Как?! Уже все?! (...) Как представлю, что кто-то будет продолжать читать, что кто-то и сейчас продолжает читать. Нет, действительно. Идите сюда, я прижму вас, дети мои, к своему сердцу. Хотите продолжать? Так давайте! Продолжайте! Вперед! Вперед!»[146] Юмористическое отстранение не довольствуется литературным процессом, но атакует само содержание литературы и заржавевший академизм «великих идей и чувств».
Соединение «распыляемости» с постоянным напоминанием о себе может показаться по меньшей мере парадоксальным. Но только на первый взгляд. Отказ от авторского диктата, уклонение от однозначной ответственности за повествование и вместе с тем нарочитые заигрывания, напоминающие читателю, кто есть кто, — суть две стороны одной медали. И то и другое вписывается в осознанную двойственность: «Когда я делаю какое-либо заявление, то сразу же замечаю, что обратное ему высказывание также интересно, до такой степени, что это становится суеверием»[147]. Что стоит за этим суеверным нежеланием высказаться определенно (ограничивая предел)? Гипертрофированная диалектика? Патафизика или философия дао? Кено готов всегда поставить под сомнение любое свое рассуждение: «Если я начинаю думать, то уже никак не могу из этого выбраться. Так что я предпочитаю пинать язык по заднице»[148]. В статье «Несколько мастеров XX века», посвященной Джеймсу, Жиду, Прусту, Кафке и Гертруде Стайн, Кено констатирует, что «роман устал, и пора задумываться о выживании жанра». Размышляя о перспективах его развития, Кено отдает дань Флоберу — первому, хто смог «методическим образом практиковать сомнение в отношении своего искусства». Эта фраза Декарта заслуживает особого внимания, поскольку она передает отношение Кено не только к роману и литературному письму, но и вообще к знанию и познанию.
В каком-то смысле подход Кено (мы никогда не сумеем предвидеть, что может написать индивидуум) предвосхищает позицию Ролана Барта; начиная с 50-х годов тот также задается вопросом: «Как подступить к этой тонкой нити, связывающей произведение и его автора». Перед всяким анализом критический взгляд должен определить собственное «местоположение». Кено понимает, что писать о другом — это прежде всего писать о себе, а высказать всю правду невозможно. Автор, рассказывая о чем угодно, в итоге рассказывает о тщетных попытках правдиво рассказать. Запись в «Дневнике» это подтверждает: «Можно ставить под сомнение внешность и обмануться, так как всякая вещь имеет множество видимостей, бесконечное количество видимостей». Письмо — зона сомнения — реальное пространство, заполненное видимостями, из которых читатель сможет построить свой собственный мир, отличный от мира, порожденного писателем. Романы Кено как раз и являются зоной смущения, территорией между-речья, где персонажу, как и автору, постоянно приходится выбирать между молчанием и изречением правды: «Зажатый в углу вагона каким-то жирняем, у которого воняло изо рта, он погрузился в целую серию размышлений о необходимости предварительного сомнения для любого философского размышления. (...) Всякое действие — разочарование, всякая мысль — заблуждение. И именно из-за наивности: мы допускаем искренность любой видимости, хотя в ней, наоборот, следует сомневаться»[149].