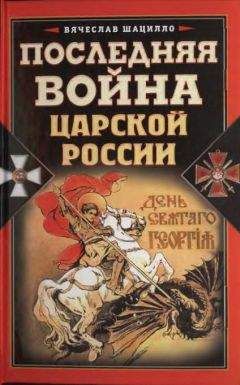Василий Белов - Год великого перелома
Она вылезла из-за кросен. Качнула зыбку, сдернула с гвоздика рукотерник и промокнула глаза. Дымов сник, сел на лавку к столу и вытащил из кармана початую бутылку.
— Ладно, Палагия Евграфовна. Ты не сердись. Дай-ко лучше ножик да луковицу. Ну и черепяшку какую-нибудь.
— У тебя, Акимушко, что севодни за праздник? — усмехнулась Палашка, подавая хлеб и луковицу с солью. — До Николы-то вроде бы не дожили, а ты ходишь в хромовых сапогах. А много ли жита насеял? Чево опеть прибежал в Шибаниху?
— Чево? — не по-людски засмеялся Дымов. — А вот чево. Слышно, у вас в Шибанихе объявился поп! Дак я к ему на исповедь… Правда ли, что поп третий день у вас в деревне ночует? У Пашки Рогова в доме? Дак вот, сходила бы ты…
Палашка качнула зыбку и в тревоге присела на табуретку. Гость махом опорожнил стакан, приставил к носу разрезанную луковицу.
— Где Самовариха? — тихо спросил он.
— Ушла к осеку. Тонюшка тоже в лесу, шел бы и ты туды…
— Палагия Евграфовна… — Дымов долго глядел в пустой стакан. — Может, выпьешь со мной? Не будешь, я тебя знаю… Дак я тебе поклонюсь хоть в ноги, сделай одно дело… Сходи… Сходи за Верой Ивановной! Сбегай… А я и зыбку качну и чего хошь для тебя сделаю.
— А ежели не пойдет?
— Дак ты сделай, чтобы пришла!
Палашка видела, как Дымов сжал правый кулак, слышала, как скрипнул зубами. «До чего же парень хорош, до чего ядрён, какая сила в руках, какая жара в глазах! Да на Тонькином месте босиком бы по снегу за ним бежать, не то что узориться. Ой, дура какая! Да и ему вроде бы не нужна Тонюшка-то… За Верой послал… А што я-то? А ничево, возьму да и сбегаю! Вот!»
Такие мысли промелькнули в Палашкиной голове, пока надевала казачок и сапоги на босу ногу.
Выглянула за ворота — на улице никого. Все равно, лучше задами. Шмыгнула, в загороду, перебежала хмельник и вниз к реке, как будто бы к бане. Снизу поднялась к роговскому подворью. Летние ворота открыты. На припеке, укрытый от холодного ветра южной стеной, возился с топором Сережка. Новые, только что вырубленные ходулины лежали на земле. Палашка сказала:
— Дома Верушка-то? Скажи-ко ей, чтобы пришла поскорее ко мне! Не надолго, чтобы подсобить пряжу сновать! Скажи, батюшко!
И Палашка теперь уже напрямки через огороды побежала обратно. Она спряталась в хмельнике Самоварихи, притихла там и вскоре увидела Веру. Та, укутанная в зимний платок, прошла мимо изгороди и хмельника. Ворота в сени хлопнули. Палашка совсем обезумела. Какая-то горькая злость вскипела в горле и вместе со слезами от холодного ветра сочилась из глаз, волнение мешало обдумать все как следует. «Вот! — мысленно что-то доказывала она кому-то. — Вот! Пусть. Так и надо, пусть…» Что пусть? Кому и что так и надо? Про это она себя не спрашивала и ни во что сейчас не вникала. Через некоторое время она решила выйти из хмельника. Палашка этого не запомнила. Запомнила она лишь то, как уже на рундуке Самоварихиной избы встретила Веру. Вся в слезах подруга остановилась, дрожащими руками перевязала платок и сказала Палашке:
— И не стыдно тебе? Неужто не стыдно было? Ведь я мужняя жена, у меня двое деток, оба крещёные. А ты позоришь меня… Тьфу!
И Вера отвернулась от задушевной подруги. Не оглядываясь, пошла она от подворья, а Палашка обозлилась еще больше и вбежала в избу.
Ребенок плакал в плетеной зыбке. Аким Дымов стоял посреди избы, голова под самую матицу, весь красный, с нездешним лицом. Не глядя на Палашку, он рванул рубаху. Пуговицы покатились по половице. Сдернул с головы новую кепку и бросил ею прямо в божницу.
— Все одно, рано или поздно моя будет! — сказал он, скорее самому себе, чем Палашке. Повернулся и сапогом ударил в тяжелые двери.
Палашка в страхе и в диком отчаянии ничком кинулась на кровать, ткнулась мокрым носом в жесткую Самоварихину подушку.
* * *Павел ждал ареста если не с часу на час, то со дня на день. Едет ли кто берегом, идет ли незнакомый шибановской улицей, щеколда ли на воротах брякнет, телега ли скрипнет в заулке — все казалось, что это за ним. Давно налажена котома сухарей. В четвертое поле Митька больше не появлялся. Вспаханы и посеяны оба загона. Дедко насеял ячменя и овса, уже проклюнулось. Небольшой пригончик по бабьим просьбам выкроили под лен. Вот и картошка в огороде посажена, и к осеку схожено, а за ним все не идут. По ночам не во время просыпался, думал: «Женка вся извелась. Сразу бы, что ли… Чего они тянут?» Когда подряжали пастуха, Павел видел Куземкина. Как будто ничего не случилось. В другой раз у клюшинского гумна встретились лоб в лоб: Павел хмуро прошел дальше, а Митька даже кивнул, вроде бы поздоровался. Не знал Павел что и подумать.
Так дожили до Николина дня…
И до Троицы дожили, а за Павлом все не шли. В сухарях завелась какая-то моль. Аксинья вытряхнула их из мешка и вручную пестом истолкла в березовой ступе. Споила корове…
На Троицу выросла в загороде трава, привезли с дедком брошеный у реки жернов. Серега с Аксиньей надрали много корья. Павел Рогов с часу на час все ждал собственного ареста.
Не приходил в голову Павлу Рогову простой и ясный вопрос: а отчего это в Шибанихе нет никаких разговоров ни про Митьку Куземкина, ни про Павла Рогова? Разговоры были, конечно, но по отдельности и совсем не о том. Куземкин просто-напросто никому не сказал, как пороли его в четвертом поле. Ни одна живая душа, кроме Сереги да мерина, не знала, что случилось в четвертом поле! Серега давно научен молчать кое в каких делах, даже Олешке не рассказал. Или рассказал все ж Олешке-то? Павел попробовал выведать у брата, что он знает, что не знает. Нет, ничего Олешка не знал. Вот так Серега! Вот так Митька! Опять у Куземкина пролетарский колхоз, даже напахали с Кешей Фотиевым да с Мишей Лыткиным. Пахать, можно было и не пахать, у Евграфа было под зябь вспахано. Заборонили колхозники, овса и ячменя посеяли. (Рассевать в колхозе Самовариху звали.) Митька Куземкин опять ходил с документациями. В Николу напился, плясал под лошкаревской черемухой:
Старая сударушка,
Глазам не поводи,
Ты сама не ладно сделала,
Сказала — не ходи.
(Тонька-пигалица только в платок прыснула, она и не подумала водить перед Куземкиным невеселыми своими глазами.)
В Троицу председатель плясал в Ольховице, был там в гостях. Отчего и там не сказал никому, не нажаловался, как пороли его в четвертом поле?
Может, Куземкину стыдно было, что пороли кнутом и что сдачи не дал. Может, бумагу не настрочил на разу, а потом и зло прошло. Может, и совесть засказывалась, припомнил грех с пачинским пиджаком, с маткиной наволочкой, с меерсоновскими червонцами. Кто знает? Не трус же был Митька, не боялся же он, что убьют. Вон как высоко на церкву лазал и то не боялся. Правда, гороховый флаг одним углом от креста отцепился, прибило материю первым летним дождем и обмотало вокруг луковки травяным ветром.