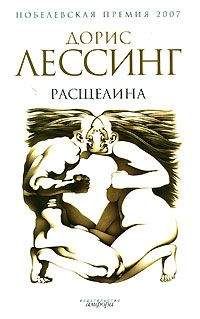Дорис Лессинг - Золотая тетрадь
— Вот видишь. Нет, отец имел в виду не это. Неудивительно, что вы считаете друг друга глупыми; вы ждете друг от друга глупостей, всегда готовы к этому. Когда я вижу, как общаются мои родители, я их не узнаю, они такие глупые друг с другом. И ты, ты тоже, когда общаешься с Ричардом.
— Ну хорошо, а что же он тогда имел в виду?
— Он сказал, что то, как я отвечаю на его предложения, суммирует итоги реального влияния коммунизма на западные страны. Он сказал, что каждый, кто был в партии, или сейчас в ней состоит, или хоть как-то с нею связан, страдает манией величия. И добавил, что, если бы он был начальником полиции и ему нужно было бы где-нибудь выявить коммунистов, он задавал бы людям один-единственный вопрос: «Согласились бы вы поехать в слаборазвитую страну и руководить там работой сельской больницы на пятьдесят мест?» И все красные ответят: «Нет. Какой смысл заботиться о здоровье пятидесяти человек, когда базовое устройство общества остается неизменным».
Томми наклонился вперед, глядя прямо ей в лицо, и спросил настойчиво:
— Что скажешь, Анна?
Она улыбнулась и одобрительно кивнула, но этого было недостаточно. Она сказала:
— Да, это вовсе не глупо.
— Вот именно.
Томми откинулся назад, с облегчением. Ему удалось, так сказать, спасти отца, защитить его от презрения Молли и Анны, и теперь он и им воздавал должное:
— А я сказал ему, что этот тест не позволил бы ему выявить тебя или мою мать, потому что вы обе поехали бы в ту сельскую больницу, ведь правда?
Ему было важно услышать от нее «да»; но Анна хотела быть честной до конца, ради самой себя.
— Да, я бы поехала, но Ричард прав. Он точно описал мои при этом чувства.
— Но ты бы все-таки поехала?
— Да.
— Интересно, ты бы действительно поехала? Я вряд ли бы. То есть я же отказался от обеих предложенных работ, вот и ответ на этот вопрос. А ведь я даже никогда и не был коммунистом — я просто наблюдал тебя, и мать, и ваших друзей, и как вы этим занимаетесь, и это на меня повлияло. Я страдаю параличом воли.
— Это Ричард так сказал? Паралич воли? — спросила Анна, не веря своим ушам.
— Нет. Но он это имел в виду. Я нашел это определение в одной из книжек про безумие. Что отец сказал, так это то, что воздействие коммунистических стран на Европу заключается в том, что людям стало все равно, их лучше и не беспокоить. Потому что все привыкли к мысли, что целая страна может перемениться полностью за каких-нибудь три года — как в Китае или как в России. И если люди не видят в ближней перспективе глобальных перемен, то лучше их вообще не беспокоить, им все равно… А как ты думаешь, это правда?
— Это правда лишь отчасти. Это относится к тем людям, которые какое-то время прожили внутри коммунистического мифа.
— Еще совсем недавно ты была коммунисткой, а теперь вот употребляешь такие слова — «коммунистический миф».
— У меня иной раз создается впечатление, что ты винишь меня, и мать, и многих наших за то, что больше мы не коммунисты.
Томми низко опустил голову, нахмурился.
— Ну, я помню, как вы были такими деятельными, активными, вы бегали туда-сюда, все время что-то делали. Теперь этого нет.
— По-твоему, любая деятельность лучше, чем никакая?
Он поднял голову, сказал обвиняющим тоном, резко:
— Ты знаешь, о чем я говорю.
— Да, конечно знаю.
— Угадай, что я сказал отцу? Я сказал, что, если бы я туда поехал и если бы я занялся этой нечестной благотворительной работой, я бы начал в среде рабочих организовывать группы революционеров. Он совсем не рассердился. Он сказал, что в наши дни революции являются одним из основных рисков большого бизнеса и он бы принял меры предосторожности и разработал систему страхования на случай революционного восстания, поднятого мной.
Анна промолчала, и Томми добавил:
— Это была шутка, ты это понимаешь?
— Да, понимаю.
— А я сказал, чтобы он спал спокойно и на мой счет не волновался. Потому что я не стану устраивать революцию. Если бы это было двадцать лет назад, то стал бы. А сейчас не стану. Потому что теперь мы уже знаем, как обстоит дело в революционных группах: не прошло бы и пяти лет, как мы бы начали друг друга убивать.
— Не обязательно.
Взгляд Томми ясно говорил: «Ты ведешь себя нечестно». А вслух он произнес:
— Я помню один ваш с мамой разговор, пару лет назад. Ты тогда сказала моей маме: «Если бы нас угораздило быть коммунистками в России, или в Венгрии, или где-нибудь еще, одна из нас наверняка пристрелила бы другую как предательницу». Это тоже была шутка.
Анна сказала:
— Томми, у твоей матери и у меня, у нас обеих была довольно сложная жизнь, и мы много чем занимались. Ты не можешь ждать от нас сейчас юношеского задора, лозунгов, победных кличей, боевых воззваний. Мы, мы обе, вступаем в средний возраст, приближаемся к нему.
Анна слышала сама, что она все это произнесла с определенной долей холодного удивления, почти что с неприязнью.
Она сказала самой себе: «Я рассуждаю, как старый усталый либерал». Однако она решила не сдавать своих позиций. Она взглянула на Томми и обнаружила, что он смотрит на нее весьма скептически. Он сказал:
— Ты хочешь сказать, что я не имею права рассуждать как человек, вступивший в средний возраст? В мои-то годы? Но, Анна, я себя так чувствую, я чувствую себя немолодым. Ну, что ты должна ответить мне на это?
Вернулся недобрый незнакомец, он сидел напротив, его глаза светились злостью.
Она сказала быстро:
— Томми, вот что мне скажи: как бы ты подытожил весь твой разговор с отцом?
Томми вздохнул и снова стал самим собой.
— Всякий раз, когда я вижу его в офисе, я удивляюсь. Я помню, как это было в первый раз, — до этого я с ним всегда встречался у нас дома, да пару раз у Марион. Ну, как тебе сказать, я как-то привык его считать… довольно заурядным, понимаешь? Обычным. Скучным. Как и вы с мамой считаете. Так вот, когда я первый раз увидел отца в офисе, я был смущен, — я знаю, ты сейчас мне скажешь, что это из-за власти, которой он обладает, ну, все эти деньги. Но дело было не только в этом. Там было нечто большее, другое. Неожиданно он показался мне совсем не ординарным, не второсортным.
Анна сидела и молчала, она думала: «К чему он клонит? Похоже, я что-то упускаю. Что?»
Томми заметил:
— А, я знаю, что ты думаешь, мол, Томми и сам ординарный и второсортный.
Анна вспыхнула: раньше она и вправду так думала. Томми заметил, что она покраснела, и на лице его появилась недобрая улыбка. Он сказал:
— Ординарные люди необязательно глупы, Анна. Я прекрасно понимаю, что я из себя представляю. И именно поэтому я и чувствую себя неловко, когда прихожу в офис к своему отцу и наблюдаю, как он ведет свои дела, и вижу, что он в бизнесе — очень большой человек. Потому что и я хорошо бы с этим справился. Но я не смог бы, никогда бы не смог, потому что мне пришлось бы жить с раздвоенным сознанием — из-за тебя и моей матери. Разница между мной и моим отцом заключается в том, что я осознаю, что я зауряден, а он не понимает, что и он — тоже. Я прекрасно понимаю, что такие люди, как ты и моя мать, в сотни раз лучше, чем он, — и даже несмотря на то, что вы такие неудачницы и что у вас все так нескладно. Но лучше бы я этого не понимал. Ни в коем случае не говори этого моей матери, но было бы намного лучше, если бы меня воспитал отец, — если бы это сделал он, я был бы счастлив в положенное время сменить его в рабочем кресле.