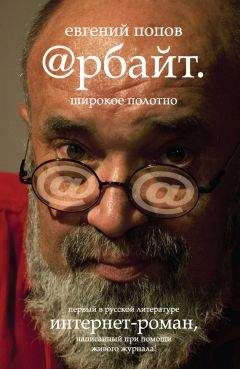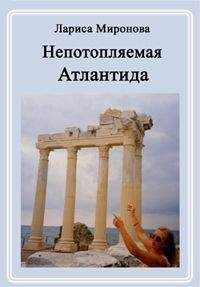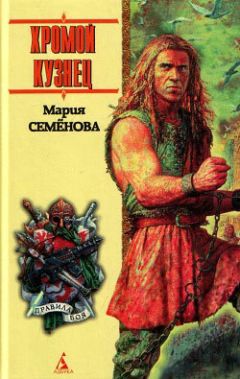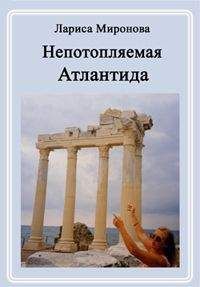Лариса Миронова - На арфах ангелы играли (сборник)
– Сейчас! Сейчас! – послышалось, наконец, из глубины сада.
С большой корзиной в руке по дорожке шла женщина, в которой Алеся с трудом узнала Помпушку.
– Вы? – вскрикнула она, невольно отступая назад.
– Я, детка, я, – ответила бывшая соседка, ставя корзину с яблоками на крыльцо. – Старая и некрасивая тётка. Да, это я. Уехали они, – сказала она, указывая на закрытое газетой окошко некогда Алесиной квартиры. – Сейчас здесь никто не живет, видишь, замок висит.
– А где… где же дядя Фёдор? – спросила Алеся, всё ещё не веря своим глазам – женщина говорила голосом Помпушки, и лицо её было тоже Помпушкино, но что-то совсем иное, незнакомое, пугающее было во всём её облике, и девочка, не понимая сама, почему, горько з а п л а к а л а.
– Ну-ну, будет тебе реветь, – сказала Помпушка и взяла Алесю за руку. – Пойдем ко мне, я тебе кое-что дам.
Алеся утерла слёзы и пошла вслед за старой и небрежно одетой женщиной, некогда ею люто ненавидимой.
В доме было чисто и прибрано. Ни одна вещь не лежала, где попало. Однако в квартире пугающе пахло пустотой.
Посреди большого круглого стола, в стеклянной вазе лежали яблоки „пепенка“, а в конфетнице – горкой конфеты „школьные“. Алеся сглотнула слюну и вспомнила, что с утра ещё ничего не ела.
– Вот, возьми, будет тебе память о нашем доме, – сказала Помпушка и протянула Алесе кружевной воротничок. – И я скоро уеду, к дочери, никого здесь не останется. Да и дом, говорят, снесут, панельную пятиэтажку будут строить. Баню, видела, уже начали отстраивать?
Баня напротив школы была разрушена бомбой – прямое попадание. Разбитки, по весне густо зароставшие яркими, дурманно пахнущими медом одуванчиками, стояли по всему Гомелю, и вот теперь только начали их понемногу разбирать и отстраивать на их месте новые дома.
– Видала, мы там раньше в жмурки играли, – сказала Алеся и снова приготовилась плакать. – А где дядя Федор? На работе?
Женщина вздохнула и вытерла рукавом кофты глаза.
– Нет, девочка. Нет больше нашего Федора. Он погиб. „Кукурузник“ загорелся уже на посадочной полосе, а Федор как раз был на поле, у метеобудки, ближе всех к самолету оказался… Первый подбежал, помог летчику выбраться, хотел ещё что-то там сделать, замешкался, его и придавило горящими обломками. Странная смерть…
– Простите, простите меня! – теперь уже в голос заплакала Алеся, дергая Помпушку за рукав кофты и больше не стесняясь своих слез.
– За что, детка? – удивилась женщина.
– Не знаю, за всё простите…
– А мама твоя как, Броня как?
– Спасибо, хорошо. У неё интересная работа. Их школа заняла первое место в области по воспитательной работе, маму тоже наградили – дали значок „отличник просвещения“, – говорила Алеся, не переставая горько, со всхлипами плакать.
– А что-нибудь об отце знаешь?
– Ничего. С техз пор, как он уехал из Гомеля – ничего. Знаю только, что его родители умерли, а где живет он сам, не знаю.
– Надо искать. Отец все-таки.
– Знаю. Как-нибудь я туда съезжу. У меня ведь уже паспорт есть, – говорила Алеся, по-прежнему всхлипывая и не умея сдержать слез.
– Будет тебе, – тоже заплакала женщина. – Это жизнь, то всё хорошо и весело, то вот так вот повернется. И смотришь на всё уже совсем другими глазами… Я скоро уезжаю, в Минск, там, у дочки свой до – мик… А здесь одной очень тяжело. Подружку свою из третьей квартиры, ну ту, с колченогой мамкой, помнишь? Тоже уехали они… А мне в новую квартиру как-то не хочется, да и к саду привыкла.
5
В ообщежитии, в комнате, куда дали ордер Алесе, на двух кроватях уже лежали матрацы – ура! Подселили!
Горя нетерпением, побежала в комендантскую, посмотреть, кто же они, её соседки? В галдящей толпе вчерашних абитуриентов, а ныне – студентов, она разглядела рыжую, как осенний лист клена, девушку в очках, которая расписывалась за пятьсот пятую комнату. Рыжую звали Надеждой, и была она родом из сибирского поселка. Держалась уверенно, будто и не в университетском общежитии теперь находилась, а в родной сибирской Сосновке. Она всем говорила „вы“ и подробно рассказывала о том, как обстоят её дела.
– Вы знаете, – говорила она громко и чопорно, уморительно смешно поднимая ярко подкрашенные, подковкой, широкие брови, – я всё сдала на „отлы“, кроме химии. И всё из-за чего? Просто не успела по справочнику прошвырнуться. Альдегиды подзабыла. И ещё с оксидами казус вышел – не смогла написать формулу оксида кислорода. Ха, ха и ещё раз – ха.
– Ну, это же просто непруха какая-то, – посочувствовала её Алеся. Эта нарочитая манерность никак не вязалась с её захолустным внешним видом – на голове был белый ситцевый платок, завязанный вокруг шеи, как это обычно делают деревенские бабы, яяяярко-черные карандашные брови и крашеные хной волосы, темные сатиновые шаровары шириной с Черное море, домашней вязки кофта чуть не до колен. А речь? Правильная русская речь, но через слово – заковыристый научный термин.
– А знаете, я до всего сама могу додуматься, – продолжала рассказывть о себе сибирячка. – Вот на производственной практике в школе надо было разобрать мотор трактора и заново собрать. Я собрала, и у меня осталось целое ведро деталей, смое смешное, что трактор прекрасно поехал и без них. Ха, ха и ещё раз – ха.
– Действительно, забавно, – рассмеялась и Алеся. Представляя, как по сибирскому тракту чешет на полной скорости трактор без половины деталей под капотом, – но, может быть, трактор ехал под горку?
Надежда указательным пальцем поправила съехавшие очки, подтолкнув их на переносицу и строго посмотрела на Алесю.
– Не смешно, сказала, наконец. Она и легла на кровать, углубившись в чтение какого-то учебника.
Рациональная Надежда жила очень экономно – масло („топливо для мозга“), черный хлеб („пища здорового человека“), кабачковая икра (витамины) и конфеты „парус“ (для души). Зимой она, единственная в Москве, нисколько не комплексуя, носила валенки, и её по этим валенкам узнавал весь университет. Надежда никогда не унывала, приходя после лекций, „питалась“, сидя на стуле у стенного шкафчика, потом ложилась на кровать и до вечера зубрила лекции и ещё учила французский язык (в школе у неё был немецкий). Надежда была высока и стройна – „хундер зипзих“, то есть – рост сто семьдесят, настоящая „рыжекудрая бестия“. Острая на язык, она не тушевалсь ни перед кем, всегда оставляя за собой право последнего суждения по любому вопросу. Надежда считала своим долгом опекать Алесю – это выражалось в том, что она безжалостно выкидывала из комнаты всех представителей мужского пола, которые имели неосторожность туда забредать – попросить учебник по физпрактикуму, одолжить чаю-сахара, просто ли поболтать.
– Ты ещё не знаешь мужчин, что это за сволочи, – безаппеляционно заявляла она, выкидывая очередного претендента за дверь.
Никто не сомневался, что „девушка-трактор“ успешно пропашет полный курс наук и рано, раньше всех, отмеченных печатью таланта, станет профессором. Так оно и вышло – уже на пятом курсе она получала именную стипендию, а в тридцать пять лет её, перспективного доктора наук, пригласили во Францию на стажировку. Там она и осталась, поселив в свою московскую квартиру мамашу с папашей, коим на старости лет сидеть в одиночестве в будке стрелочника, на разъезде, у родной Сосновки уже порядком осточертело.
Замуж она не выходила и нисколько не жалела об этом.
Другая соседка, Линочка, из города Пущино, была девушкой состоятельной – обедала в столовой, а на ужин жарила на большой сковородке колбасу.
Ну а когда Надежда, умаяшись нестерпимым запахом, говаривала „со смыслом“ – „А не вредно ли зараз столько мяса есть?“, Линочка, нисколько не смутившись, отправляла в хорошенький ротик очередной аппетитный ломтик колбасы и говорила спокойно, будто и вовсе не задетая подковыркой: „Нет, не вредно, если молодым“.
Линочка уже имела солидного жениха, который работал в Пущино и приезжал к ней в общежитие по средам, терпеливо дожидаясь, когда она напоется от души – его невеста по вечерам уходила в холл петь в компании второкурсников „Бабье лето“ Окуджавы. Он же, терпеливо сидя на стуле в одной и той же позе, за весь вечер произносил только одну, и всегда неизменную фразу: „Жарко стало, свитер сниму“. Причем вместо звука „с“ он говорил „ф“, и получалось очень смешно, так смешно, что смешливая Надежда просто с кровати падала от хохота, когда после часового молчания гость вдруг серьезно произносил: „Жарко фтало, фвитер фниму…“
Линочка была изящна, в меру полна, имела хорошенькое личико со слегка отвислыми щечками, делавшими её похожей на симпатичного хомячка. Она же, критически осмотрев Алесю со всех сторон, серьезно сказала, покачав головой: „Боже, как всё запущено!“ – и предложила поработать над её внешним видом. И перемены произошли радикальные. Светлые, слегка пепельные волосы Алеси были безжалостно перекрашены „гаммой“ в черный цвет, глаза помещены в траурную кайму, а тонкая кожа свежих щек мертвенно выбелена пудрой „рошель“.