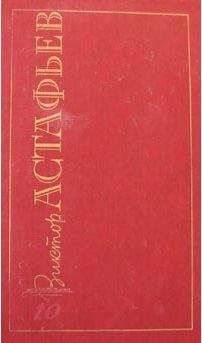Виктор Астафьев - Царь-рыба
Один рассеянный поэт, уходя, вместо ручки совал в кармашек пиджака чайную ложку, понуждал маму пить с ним дешевое красное вино и кончил тем, что женился на молодой продавщице из пивного бара в парке культуры и отдыха, сделался толстым от пива, купил «Запорожца», стихи писать бросил и маму при встрече «не узнавал».
Потом появился некто Карепанов из Удмуртии — помесь бесцветного вотяка с дебелой русской бабой. В Удмуртии он говорил и писал только на удмуртском языке. В Москве говорил и писал только по-русски. Он прикинулся тихоньким, бездомовым. Мама, конечно же, пригрела «сироту», доводила «до ума» толстенный его роман про современную передовую деревню, прописала его в своей квартире, и когда наконец после скандалов и проволочек роман, под который мама пособила автору выбрать все авансы и не издавать его сделалось уже невозможно, вышел, Карепанов отхватил через суд одну из трех комнат в квартире мамы, папа к тому времени потерял московскую прописку, мама, захваченная стихией литературы, забыла ему о том напомнить, да, пожалуй, и не ведала паспортных законов. Зато Карепанов знал все.
Не успев отлежаться в больнице после схватки с Карепановым, мама обнаружила автора еще более одаренного, из бухты какой-то. Этот мыслитель, по фамилии Пупков, работал в леспромхозе вальщиком. Он и в литературе вел себя, как на лесозаготовках, писал, будто дрова рубил. Прямой, взъерошенный, был он тем редким автором, который «импонировал» Эле. Всю писательскую свору, валившую через их квартиру, словно через перевалочный пункт, она терпеть не могла, однако с детства нахваталась литературной отравы, бойко читала «редкие» стихи, баловалась именами модных поэтов, могла сойти за «знатока». Пупкова-милягу она баловала вниманием, подкармливала на кухне. Мама, работая над рукописью Пупкова, хваталась за сердце.
«Вы, Тихон, прелесть! Я думаю, писатель из вас получится стоящий. Только учитесь, учитесь. Знания жизни, пусть и превосходного, мало!» — «Што я, не понимаю, што ли? Вот попаду в Союз писателей, на литкурсы стану проситься».
Пупков и в самом деле объявился на курсах в Москве. Не позвонив, не предупредив, ввалился в роскошном пальто с каракулевым воротником, в собачьей мохнатой шапке, сгреб в беремя маму и Элю, поднял, закружил, выхватил из портфеля кус редкостной рыбы, пристукнул бутылкой о стол: «Пировать будем, когда так! — и добавил, потирая руками: — В Москве калачи, что огонь, горячи!»
Сидели, разговаривали. Тихон хвастался, сколько он «умных» книг прочитал, еще один сын у него появился — все хорошо.
Мама, мама! Что с нею сейчас? Жила, работала не только ведь ради карепановых, но и на нее, на дочь, жизнь убухала, да не понимала этого дочь-то, дура набитая, проклятая!.. И жизнь мамы, на первый взгляд безалаберную, разбросанную, бестолковую, не понимала, ведь при всем при том мама открыла, вынянчила, «спасла» навалом по-настоящему даровитых авторов, а главное, она всегда была среди людей и нужна людям, и когда ее шибко интеллектуальная дочь после десятилетки, ожегшись на быстрой любви, ударилась в отчаяние и пессимизм и никуда не ходила из дома, терзая себя печальным одиночеством, мама так грустно и так серьезно сказала: «Одиночество — беда человека, дорогая моя. Гордое одиночество — игра в беду, и ничего нет подлее этой игры! Позволить ее себе могут только сытые, самовлюбленные и психически ненормальные болваны».
Дошло! Дошло вот! Дошло, когда припекло! И мама совсем иной видится, и жизнь ее, трудами и заботами переполненная, высветилась иным светом, и нет никого лучше мамы, и дай бог вернуться домой, заберет она документы из Литинститута, куда поступила, поддавшись модному течению времени — детки литераторов сплошь ныне норовят в литераторы, детки артистов — в артисты.
А она поступит… Куда же она поступит? Ну, пока еще рано об этом думать, но поступит учиться серьезной, полезной профессии и никогда, никогда не покинет маму, будет все время сидеть дома, готовить, стирать, прибираться и ничем-ничем и никогда не обидит маму.
Возле дверей избушки послышался шорох, скрип, предупредительное покашливание. Эля пощупала лицо, вытерла глаза, распахнула низкую дверь избушки. «Пана» весь в мохнатом куржаке, шапка, шарф, брови, каждая неприметная глазу волосинка на лице обросли белым мохом. Из лохматой белой кочки, из-под мокрых ресниц светились щелки нахлестанных ветром глаз, губы вздуло холодом, валенки каменно постукивали, большая изнуренность была в каждом движении охотника.
«Зачем же ты так долго ходишь? Стужа на дворе!» — чуть было не вырвалось у Эли, но она успела вовремя застопорить, помогла раздеться промысловику, вытянуть валенки из спущенных на голенища отяжелелых брюк.
Оставшись босым, Аким посидел на чурке расслабленно, недвижно и не скоро шевельнулся, выдохнув:
— Во ушомкался дак ушомкался! — Вынув из мешка четырех налимишек, мерзлую куропатку, зайца с проволочной петлей на шее, он птицу и зайца сунул за печь, на дрова; налимов, которые в тепле обыгались и начали возиться в ивовой плетенке, распорол, выдрал из них внутренности, отделил максу.
— Отдыхай, грейся, я сварю, — предложила Эля. Аким молча протянул ей ножик, сполоснул руки, сел к печке, закурил и, пока нагревалась, закипала вода в котелке, не шевелился, не разговаривал. Они «слеповали» без света, и только промельк огня от цигарки да серо стелющийся понизу, уплывающий в поддувало табачный дым свидетельствовали о том, что Аким не уснул.
— Что-то случилось? — тронула его изветренную, шершавую руку Эля и задержала ладонь на костистом, горящем от мороза запястье.
— Начинаются морозы, снег по лядинам уже до коленей, — не сразу заговорил он. — Если мы на этой неделе не выйдем, хлебать нам тогда здесь мурцовку[2], поди-ко, до февраля. И дойдем мы до тюки… Пусть даже я добуду сохатого, найдем мы с Розкой берлогу, но ты человек больной, изваженный, тебе питанье хорошее нужно, иначе беркулез… Соли, крупы, если не сорить горстям, как ты вот только што, должно хватить на месяц. Дальше как?
Рассыпанная соль потрескивала на печи. Эля только и воспринимала этот легкий треск как упрек в расточительности, все остальное было так серьезно, что вникнуть в смысл Акимовых слов она разом и не могла, ее тяготило вновь нависшее молчание.
— Уходить так уходить, — чересчур бодро проговорила Эля. — На этой неделе так на этой неделе. Чем скорей, тем лучше.
— По Эндэ до Курейки два перехода. Эндэ я пробежал — почти везде замерзла. На Курейке есть шивера и пороги, возле них полыньи, нырнешь и больше не вынырнешь… Горы нам с тобой не обломать, сорвесся, укатисся, засыплет курумником, — все тем же, едва слышным голосом наставлял ее или размышлял вслух Аким. — Если б мы и прошли пороги, Курейка пусть везде стоит, дак матерой[3] торосов наворочено, что трещобнику. Пусть где бережком, где бечевкой, где горой, где тайгой прошли мы по Курейке до станка Графитного. Живут там люди? Вопрос! Давно я не ходил по Курейке. Летать навострился, понимас. Переть в Усть-Курейку? Но и там народу небось нету. От Усть-Курейки через Енисей, в саму столицу — Курейку… М-да, долга верста таежная!..