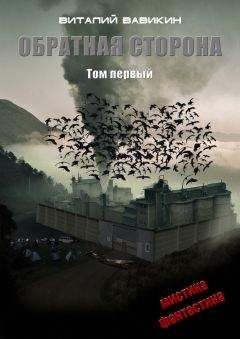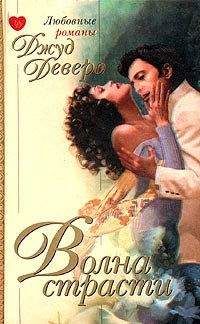Максим Чертанов - Правда
— Уф-ф!.. Итак, сейчас мы еще немножко повеселимся, а потом поедем в мой дворец... ах, pardonnez-moi, в мой бывший дворец... Там нам будет еще веселее. Кстати дайте-ка, пожалуйста, ключи от дворца, а то я потом забуду...
— Не давайте, вы, ублюдок! — прошипел Дзержинский, корчась от боли. — Он же вас вокруг пальца обведет! Что вы ему верите! Ну, поглядите на себя в зеркало, старая свинья: на кого вы похожи?!
— Не надо так со мной разговаривать, — обиженно сказал Зиновьев. — Я, между прочим, тоже человек и люблю ласку и доброе, вежливое обращение. Вот, пожалуйста, князь: ключи...
— Благодарю, — с усмешкой сказал Юсупов. — Теперь будьте добры встать спиной к товарищу Дзержинскому и взять его за руки... Как вы мило это делаете! — Он мимоходом потрепал Зиновьева по щеке. — Ага, вот так хорошо.
Зиновьев, как загипнотизированный кролик, выполнял все, чего требовал князь; а тот с усилием застегнул вторую пару кандалов на жирных ручках градоначальника, перекрестив цепочки так, что обе жертвы оказались накрепко прицеплены друг к другу, потом небрежно сунул в карман кожаной куртки ключи, взял со стола бутерброд и шагнул к двери...
— ...Как, князь?! Вы уходите? — жалобно взвизгнул Зиновьев.
Но Юсупов даже не счел нужным ответить; его каблуки уже стучали по лестнице...
— Я тебе это припомню, гнида! — сказал Дзержинский Зиновьеву и лягнул его ногой. Но тот ничего не ответил и как будто даже не почувствовал удара: оскорбленный, он рыдал, и слезы, мутные и крупные, как горох, катились по его рыхлым щечкам...
Феликс Эдмундович пытался освободиться: он бешено извивался и дергал локтями, время от времени набрасываясь на своего товарища по несчастью с новыми ругательствами. Но все его усилия оказались тщетны: кандалы были новые, усовершенствованные, и даже Гудини ничего бы не сумел с ними сделать. Шофер и охранник Зиновьева были отлично вышколены и ждали терпеливо; они осмелились подняться в квартиру лишь на другой день... С этого момента дружба питерского градоначальника и председателя ВЧК пошла на убыль так же стремительно и загадочно для большинства окружающих, как и началась.
— ...Кино — это прекрасно, — сказал он Ленину, — а о фотографии забывать не следует. Вы бы, Ильич, дали указание наркому промышленности построить заводик по производству фотографических принадлежностей.
— Обязательно, батенька, — ответил Ленин. Он был рад, что Железный в кои-то веки увлекся чем-то созидательным, а не разрушительным. — Мы даже назовем этот завод в вашу честь — ФЭД.
2
— Ну как, являлась нынче эта странность? — спрашивал Рыков.
— Пока не видел, — отвечал Пятаков.
Они говорили о призраке, что взял обыкновение прогуливаться меж зубцами кремлевской стены; верней всего его можно было увидеть в годовщину революции, но иногда он являлся и просто в полнолуние. Относительно личности призрака мнения советских руководителей расходились: так, Луначарский был убежден, что это дух Леонида Андреева, Дзержинский подозревал в призрачной фигуре своего старого знакомца Распутина, а Надежда Константиновна уверяла, что это просто безобидный кремлевский, т. е. аналог домового или банного, и даже оставляла ему иной раз мисочку с кашей. Владимир Ильич — стойкий, неколебимый матерьялист — ни в каких призраков не верил и жестоко высмеивал каждого, кто докучал ему этими дурацкими россказнями, делая, впрочем, исключение для жены.
Как-то осенней ночью двадцать второго года Ленина терзала бессонница. Дело в том, что у Айседоры Дункан — утонченной, изящной женщины — был один малюсенький недостаток: она храпела во сне, как двадцать грузчиков. Владимир Ильич не винил ее за это, но уснуть рядом с храпящим человеком не умел; он долго ворочался, потом, отчаявшись, встал, оделся и решил выйти прогуляться по Красной площади. Ночь была холодная, ясная, лунная. Он брел бесцельно, заложив руки за спину, шаги его отчетливо звучали по брусчатке; тень, плавно бежавшая сбоку от него, была худая и длиннорукая, как будто чужая.
И вдруг он словно бы почувствовал на себе чей-то взгляд. Это ощущение было очень упорным. Он оглянулся — никого. Он вскинул голову — и увидел, что меж зубцов стены неподвижно стоит высокая фигура... Он не испугался, а просто удивился, и крикнул:
— Эй, товарищ! Вы что тут делаете? Спускайтесь, а то упадете.
Человек на стене не отвечал и не двигался. Он был очень, очень высок, наверное больше двух метров ростом; потом он шагнул, с нечеловеческой легкостью перепрыгнув через зубец... Ленин охнул: тот, другой — НЕ ОТБРАСЫВАЛ ТЕНИ!
— Вы... вы кто такой?
Тот стоял, повернувшись к нему лицом, — он понимал это по очертанию темной фигуры, — но лица у него не было; не было глаз, а лишь какая-то зыбкая, клубящаяся темь... Наконец он заговорил, и голос его был страшен — словно ветер застонал в деревьях; и речь его была темна и смутна — живые так не говорят...
Троцкий я.
Я — призрак коммунизма;
я — часть той силы, что
как лучше хочет,
а совершает как всегда.
— Товарищ, говорите прозой, пожалуйста, — попросил Ленин: у него и от хороших стихов порою голова побаливала, а уж от таких гнусных завываний без рифмы и размера и подавно могла начаться мигрень. И вдруг до него дошел смысл слов, сказанных призраком... — Троцкий?! Вы... Ты — Троцкий?!
Тень в ответ наклонила свою ужасную голову без лица. Она стояла сейчас вполоборота, и в лунном свете видно было, что из спины у нее торчит какой-то предмет, очертанием напоминающий топор или, может быть, ледоруб. Глухой, стонущий голос раздался снова:
Что, не спится
тебе, товарищ?
— Не спится, верно, — отвечал Владимир Ильич, против воли подделываясь под дурацкий ритм призраковой речи.
Не спится! Что ж:
знать, кровь поэта
тебя тревожит.
— Какого еще поэта?! Какая кровь?
Призрак ему попался малоразвитый, неосведомленный — «несознательный», как говорили теперь в России; впрочем, откуда адским сущностям все знать про земные дела? Единственный поэт, чья кровь могла быть на совести у Ленина, — Гумилев, которого он пообещал Горькому спасти в августе 1921 года, — был успешно спасен по личному ленинскому распоряжению. Операцию осуществил огромный матрос сибирского происхождения с двойной фамилией — словно одной было недостаточно для его толстого тела, могучего роста и кучерявой бороды. Матроса звали Успенский-Лазарчук. Он на руках вынес Гумилева из застенка и переправил от греха подальше за границу. В России никто этого не знал, и многие считали, что на большевиках кровь невинного поэта, — Ленину очень хотелось очиститься от этого обвинения, но он опасался за жизнь Гумилева и Успенского-Лазарчука, а потому ограничивался тем, что распускал осторожные слухи: Гумилев жив, сбежал, и некоторые его даже видели. Но большинство верить не желало — Ленин вообще все чаще ловил себя на том, что ему не верят, и очень от этого грустил.
Ужо тебе!
Не спал бы ты и вовсе,
когда бы знал, что будет
у нас еще...
— Ну что, что еще у нас будет? — вздохнул Владимир Ильич. — Валяйте, говорите!
Товарищ Сталин,
исчадье ада,
гиена гнусная,
взойдет на трон.
— Что?! — Ленин решил, что призрак свихнулся. Далекий от мистики, он как-то не задумывался о том, могут ли призраки быть не в своем уме, но раз могут живые, то чем, собственно, покойники лучше? — Товарищ Троцкий, вы очумели! Коба! На трон! Идиот Коба, который ни разу в жизни не мыл рук добровольно!
Взойдет; и мрак такой настанет,
что содрогнутся
в аду все черти.
Увидеть хочешь
кусочек ада?
Я покажу...
— Не надо! — взмолился Ленин. — Не надо мне, пожалуйста, ничего показывать!
Но тень повела страшной своей рукой — пальцев на ней было примерно семь или восемь, — и стена кремлевская вдруг стала таять, бледнеть, заволакиваться туманом, очертания ее расплылись, и, колеблясь, словно от нестерпимого жара, из молочного тумана стали появляться фигуры, фигуры... Это было похоже на синематограф, только экран был во много раз больше и очертания размытые, нечеткие. И, в отличие от кино, люди на белой стене — говорили! Только слов было не разобрать — все сливалось в какой-то глухой гул. Ленин смотрел, моргая от напряжения, глаза его слезились. Он не понимал и сотой доли того, что происходило на экране. Какие-то строения, обнесенные рядами колючей проволоки,— война, что ли? Конвоиры, овчарки, рвущиеся с поводков... И мертвые, раздетые тела — горы, горы тел, как попало сваленных одно на другое... И другие люди, идущие по улице, несущие на палках плакаты с изображением благообразного усатого лица, в котором с большим трудом можно было уловить сходство с крокодильей мордочкою Кобы... Потом туман сгустился, а когда изображение прояснилось снова, он увидел тюремную камеру и на полу ее — тучного человека в одном белье, ползающего на четвереньках и рвущего на себе волосы. Человек этот обливался слезами, скулил и выл, как собака, и похож был не на человека, а на измочаленный кусок мяса, и этот человек был Зиновьев, а пол камеры был весь усеян скомканными исписанными листами бумаги — как тогда, в Разливе!