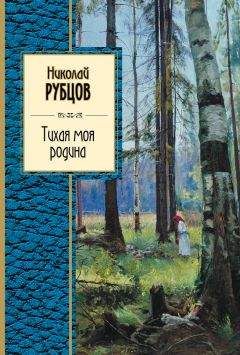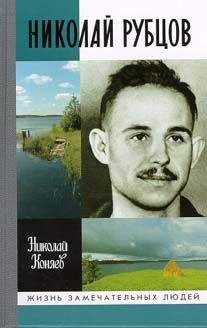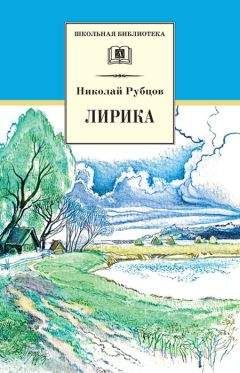Магда Сабо - Современная венгерская проза
— Оставь его, — сказал Вукович, — такой уж он есть. Я, конечно, не такой, — с мрачным пламенем в глазах добавил он, охваченный опять лихорадкой меланхолии, — я недобрый, я чудовище. Мне мозги легко не запудришь, меня оскорби — не спущу, сумею расквитаться за все. Только что с того? Счастлив я разве потом?!
И обессиленный разыгранным спектаклем и своим мучительным (хотя незамеченным) позором, Вукович тихо поведал грустную повесть своей жизни, рассказав про унылую комнату, холодную постель, про свои одинокие скитания, бесцельные победы и безрадостные совокупления, не умолчав, что без стеснения подхалтуривает, ловча, где и как может: спекулировал телевизорами, магнитофонами, кассетами, пластинками; а главный добыток — машины, своя и вообще, берется купить, продать, устроить, посредничает и свою выгоду блюдет железно; но что это за деньги, которые в одну ночь можно проспать, продуть, просадить, если они ничего осязаемого не приносят, цели-то нет, нет кого-то, ради кого стоит жить, никого он не любит и его никто, до утра король, а домой плетешься, точно выкинутая за порог собака. И так далее в том же духе с нарастающей горечью и наглядным результатом: инфицировавшая Хайдиков меланхолия сублимировалась в их сердцах в участие, неподдельным признаком коего были две жемчужины, заблиставшие в очах Йолан; да и шофер опустил сочувственно свою большую печальную голову, не задумываясь, почему это Йолан, тронутая горестной участью Вуковича, поглаживает его, мужнину руку, что после всего происшедшего должно было его порядком удивить. «Эх, кабы знать!» — сокрушался про себя Вукович, наблюдая действие, производимое его рассказом на Йолан. Вот с чего бы начать, чем пронять; давно бы пригрелся меж пышных грудей и жарких ляжек Мамули Варгули, а он-то четыре недели разыгрывал удалого шалопая!
И под влиянием своего нового открытия Вукович принялся их разжалобливать еще усердней и одушевленней, с поражающей воображение, без малого поэтической вольностью живописуя свое отчаянное положение (хотя сам уже перестав отчаиваться); но прежде чем аудитория успела разрыдаться, испытал вдруг приступ острого отвращения — в первую очередь к себе: изливается тут, перед этой задастой сентиментальной дурой и этим мягкосердым остолопом. До того дойти (пускай наврал половину), чтобы душу приоткрывать, хоть настолечко, свое, заветное высказывать им, слепленным совсем из другого теста (оба хороши, вон уже и сладились, два сапога пара), им, дуракам от рождения. Таким, у кого глупость в крови, уже не поможешь; да и нельзя помогать: эта их слюнтяйская незлобивость только парализует наступательный дух, эта узколобая доверчивость жизненное пространство отнимает у деятельной воли, эта жалость делает страдающего жалким, смелого — трусом, а гордого — лакеем; но как же это они сами расхрабрились: на своей провонявшей овощной жижей кухне, посреди красной мебели и кружек в красную горошинку, скатерок в красную клеточку и оранжевых абажуров, в своей затхленькой, тепленькой, ватненькой квартирке, с их сладенькими чувствицами, жалеют его, вольного бродягу, буйную голову, корсара шоссейных дорог, обреченного всем ветрам, дождям и бурям; как они, рабы своих детей, семьи, работы и квартиры, любви и жалости смеют унижать великого, одинокого и свободного?! Да что он, такой вот Хайдик, может знать о нем, о его жизни, настоящей, бурной, мятежной Жизни, ведомой ему, Вуковичу?! Этот лишенный воображения вол с его пропотелыми проблемками, — подмышками от них разит, с его Маргит, Йолан и детишками, которые на голову ему кладут, с этим колбасником да частником-столяром, ох уж, грозные соперники, с пристройкой своей к тестевой квартире, со своим фиксом и алиментами, «трабантом», которого еще три года ждать, — что знает этот рабочий вол о жизни, какую только и стоит вести, о радости игры и риска, об упоении опасностью и сладости победы? Какое понятие имеет о полете фантазии, дерзко-неугомонной мечте, о неуемно жадном влечении он, кто и снов-то не видит, чьи желания шлепанцами шаркают; к такому набиваться с жалобами, от него хандрой заразиться?! От этого серийного изделия, которое, даже готовое, с конвейера не слазит, ведь вся жизнь его — конвейер, так и несет до самого конца, прямо в переплавку? Вроде и похож на человека: две ноги, два уха, но разве заслуживает он этого названия; такого проучить как следует, чтобы запомнил, кто есть кто, — кто он и кто Вукович. Что такое ЧЕЛОВЕК, homo ludens[46], существо, смеющее играть, — собой и остальными, с огнем и со смертью, заигрывать с опасностью и с мыслью какой-нибудь. Существо, умеющее лгать. Ибо ложь — не что иное, как фантазия, всякая возможность, чего нет, а хотелось бы; игра же плюс фантазия есть блеф; блефовать, уверить в том, чего нет, умеет только человек (животное — никогда!), — наделенный воображением ЧЕЛОВЕК, идущий на риск, чтобы тем удесятерить свои силы. И это не дается даром, нет, платить надо, и с процентами, лгать ведь учиться пришлось, а как быть, если с принятой шкалой, системой ценностей не согласен, принял — и растоптали малявку Вуковича, ему не выиграть было иначе, как только блефуя, так уж изначально карты были сданы, он; еще не вкусив с древа познания, уже был грешен и адские муки прошел, — выстрадал свою радость, стократ принимая пытку страхом, чтобы насладиться риском, игрой; до дна опорожняя чашу несвободы, унижений, прежде чем упиться победой, властью. Сколько раз укладывала судьба на лопатки, пока не постиг: и с ней можно справиться, сколько раз перечеркивал планы случай, пока не догадался: и он поддается учету; только сметь надо, сметь, уметь терять — и случай тоже покорится игроку.
Да, он его накажет. Этого скота. Кого не били. Насмех не подымали. Не решались дразнить. И кто не боялся никогда. Не ходил кругами ада. Живет себе просто, поживает. Вегетирует, как в зоопарке бегемот. Жрет, переваривает, рыгает и пускает газы — и время от времени впрыскивает в самку секрет своих желез, чтобы стать за то ее благодарным рабом. Который ведать не ведает, что бывает жизнь содержательней; только животное принимает свою судьбу, а человек бросает ей вызов, бросает — и побеждает, ибо человек рожден для победы. ВСЯ ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕКУ! Власть над Судьбой, Природой, Случаем и над хайдикоподобными рабскими тварями! Да, он накажет эту именуемую Яношем Хайдиком мясную тушу за свой испуг, за ту выжатую страхом гениальную скулящую фразу, которая остановила занесенный над ним кулак; за холодный пот, которым обливался, схваченный в дверях за шиворот и выволоченный на кухню; за внутреннюю дрожь, с какой униженно превозносил шофера до небес; за тот рефлекс, отравивший прекраснейший, пьянящий миг, когда, подставив щеку, он уже думал, будто преодолел свои всегдашние страхи; накажет тем жесточе, что тот не виноват, — не подозревает в своей тупой доверчивости, что Вукович боится и ему порой сверхчеловеческих усилий стоит боязнь эту подавить.
Сдача четвертая,
когда тот и съел, кто смел
Испугался Вукович и в ходе начатого в рамках задуманной карательной операции Великого Картежного Наступления, — перед решающим сражением, когда Йолан, отказав обобранному дочиста Хайдику в дальнейшей материальной поддержке, предложила вдруг ее самое поставить против всего выигрыша электротехника. Испугался, сам желая того же, порешив отнять у шофера жену (в карты или так, без разницы), — не из такой уж горячей жажды обладать ею, а просто чтобы ободрать Хайдика до нитки; лишивши денег, лишить и последнего сокровища, предмета общих мужских вожделений, его распрекрасной Йолан, которую (даже блюдя ее право на самоопределение) взял и присвоил; чтоб запомнил навек: он, Хайдик, несмотря на всю свою грубую силу, — жалкий червяк, а Вукович, его нельзя жалеть безнаказанно, нельзя отпускать, скользнув взглядом поверх головы, беги, мол, нельзя махнуть на него рукой; Вукович — противник, могучий и грозный; вот чего ему хотелось, но не в ту минуту, момент был неподходящий, да и не доверял он Йолан целиком. Идея проиграть Йолан в карты могла бы исходить от него, могла бы (по его наущению) и от Хайдика (это идеальный вариант), но только не от самой Йолан; ей зачем-то понадобилось, зачем — Вукович не мог пока установить, разозлить Хайдика, но разъярять шофера как раз в его планы не входило, и он даже не без некоторого уважения взглянул на Йолан: она игрок, возможный партнер, это не исключено, хотя, может, и не такого класса, как он сам, испытав, невзирая на испуг, приятное волнение при мысли, что с Йолан можно сыграть, чем выше ставка, тем рискованней и крупней игра; но заодно подосадовав, чего же раньше не усек, шоферовой силы боялся, а Йолан из виду упустил. Надо пересмотреть стратегию, приобрести в ней союзницу в тактических целях.
До той минуты все шло гладко, в точности по плану.
После приступа черной меланхолии Хайдик вдруг ожил, воспрял, отчасти не желая напрашиваться на жалость, чему он питал инстинктивное отвращение, охотней жалея других, отчасти же потому, что Йолан, как сказано, взяла его за руку, отчего шоферу, когда до него дошло, мир представился в ином свете.