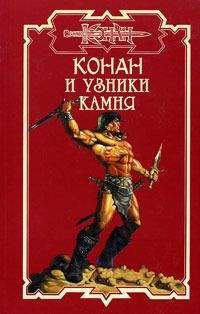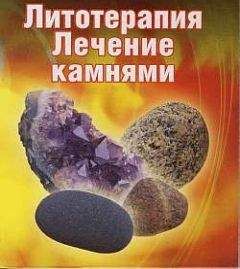Владимир Личутин - Беглец из рая
Гаврош милостиво, едва слышно засмеялся, легонько чиркнул веслом по пласти реки, оросив меня. Над головою прошел, свистя крылами, табунок чирков. Значит, где-то невдали скрадывался человек. Егерь затих, прижал челнок вплотную к чернеющим камышам, слился с природою, стал ее послушной тварюшкою; во всю дорогу Гаврош не смолил махры, словно бы и дымом боялся выдать себя, он едва ворошился веслом, зачем-то зажав ружье меж колен. Видимо, уже приближались к тому улову, куда сбегались ловкие местные браконьеры, и потому егерь пялился взглядом в мелеющую ночь, в потайках сумеречного противного берега отыскивая знакомые ухоронки и оследья рисковых рыбарей.
Проня неохотно расступалась перед лодкой, словно впереди с натугою распахивали кованые чугунные ворота. Было душно, сверху опять забусило, чавкала и хлюпала вода, наверное, бессонные верховые рыбы жадно перемалывали зебрами сочные тростниковые перья. Наконец приткнулись к кряжистому берегу, загнали лодку в промоину под розвесь цветущих узловатых черемух, свесивших ветви до самой воды. Неожиданно стало светать, взору открылась широкая сталистая заводь с куртинами осотника и куги, на дальнем берегу проступили развалистые кусты, как бы подернутые смутным дымом цветущей черемухи. Дурман накатывал волнами, как порывы ветра, вскруживал голову, крепкую хмельную бражку заваривала весна, казалось, еще миг – и выбьет затычку из лагуна на седьмое небо к самому Господу, ой и пойдет же тогда гульба-а! Да и зачем хмуриться душе, зачем каменеть сердцем, когда такой терпкой сладости хватит на всех под завязку. Гаврош затянулся сигареткою, пряча огонек в горсти, осторожно выдул струйку дыма; на меня он не смотрел, уставя напряженный взгляд в черновинку, едва колышущуюся споднизу лохматого густого подроста, будто набегала туда невидимая волна и отступала прочь: то ли морщиноватые нагие коренья дубов стекали к реке иль ворошились бобры у призатопленных ходов, иль таился в долбленке норовистый мужичок, приготовляясь трясти выставленные ввечеру снасти. Вода в заводи надулась посередке, слегка зажелтилась, стала похожей на бельмо, и по ней пошли частые мелкие всплески. Гаврош дожидался своей минуты, а я, толком не понимая его замысла, рассолодился от внутреннего напряга: из схорона сквозь розвесь ветвей мне мало чего было видать, и я невольно задремал с открытыми глазами.
Егерь, наверное, тоже опился пьяного воздуха, захмелел и на миг расслабился, потерял зоркость. Он вдруг повернулся ко мне, шурша намокревшим рыбацким роканом, и неожиданно сказал, как бы продолжая прерванные дорогою мысли:
– Вот я, предположим, Баринов... Артем Баринов... Хоть и ругает меня мати: Артем, голова ломтем... А на деревне – прозвище Гаврош. Помните, был в Париже такой парнишок... на баррикадах... Но у меня голова не ломтем, не-е, ешкин корень. – Загорелое лицо егеря влажно лоснилось, в предрассветных сумерках можно было рассмотреть запавшие щеки и черные, бездна, глаза в глубоких свинцовых провалищах. Но куда, куда же подевалась обычная васильковая нестерпимая голубизна?..
Гаврош говорил самоуверенно, горделиво откинув голову, но в надтреснутом, хриплом от бессонницы голосе проступала тоска. Беспечности не было, той легкости тона, с какой Гаврош обычно рассуждал о самом серьезном и трагичном.
«А зачем жениться, – без колебаний отвечал он матери, – если все равно умрешь».
А может быть, Гаврош, – предположил я, – что-то особенное, вещее расслышал сейчас со стороны и боялся ошибиться: а вдруг обознался и голос извне лишь помстился ему? Да и я не давал повода к исповеди.
Я слушал егеря сквозь дремотный туман в голове и не отзывался.
– Барин я, хозяин... Подо мной Бельгия; понял? Что хочу, то и ворочу... Вот и фамилия моя – Баринов... Мне родина доверила: гляди, говорит, Артем. Хватай за шкиряку сучьего потроха, чтобы чтил закон, ешкин корень. Без присмотру ведь все растащат, а после как? Всем захотелось сладенького на дармовщинку. Думают: река – кладовка, тащи все с полок – не убудет... Паша, сколько можно насильничать? В три горла жрут и не подавятся. Говорят, Баринов злой, грозят голову испроломить. Утопим, говорят... задушим... застрелим. Пусть попробуют. Правда-то на моей стороне... – горячечно шептал Гаврош, цепко прибирая с колен ружье, будто выцеливал меня. – Еще посмотрим, кто кого. И у меня свой ухват. – Егерь ласково огладил приклад. – И не соль ведь в стволах, а картечь... Свидетелем будешь? Будешь... Куда денешься...
Я не ответил, вяло подумал: «Дурачок ты, дурачок. Мякина у тебя в голове... И неуж не видишь, что живут-то нынче лишь те, кто хапнул. И крепко хапнул. Под них и законы состряпаны, под них охрана, для них банки, «капуста», министры и ОМОН. Для них свои церкви и свои кладбища, виллы и счета, своя правда и свое добро, свой кагал, где совесть людская за пережиток... А ты, Тема, крохотный отломок прежней системы, случайно несгоревший метеорит, упавший в рязанскую деревню Жабки и сейчас суеверно пугающий местных старух, то ли Богом послан на землю, то ли от дьявола, копыта мозоль...»
– И-эх, Артем, Артем, голова ломтем, – жалостливо вздохнул я. – И мужик-то вроде бы ты годящий, всем взял, и стыда не порастерял, а вот жизнь твоя как постный ржаной сухарь: ни вида, ни вкуса, ни талана, ни радости. И ловишь ты на божьей реке деревенского мужика, обманутого и обкраденного, у которого и радости на свете осталось – рюмка водки, гладь воды и небо над головою – эти жалкие крохи былой русской воли... Уже все отняли у хрестьянина. Да какой ты хозяин? Кобель ты цепной, кусучий у жирного потроха... Вот и горько тебе, бедный.
– У меня система, все схвачено... Вот тряхну Зулуса, небо с овчинку покажется. И чтоб другим неповадно.
– И что ты, Артем, к нему привязался? Мешает тебе?.. На своей реке и без рыбьего хвоста... Главное, чтобы лишнего не хватал.
– Мешает... Потому что без совести человек... И живет без Закона... Он – волк, волчара... Он думает, ему все положено... А я таких людей не терплю... Он думает, что везде – хозяин, ёк-макарёк... А этого не хошь? – Егерь сунул мне в лицо дулю.
– Отстал, бы ты от него... Ну какой он волк? Мужик и нужик... Придумываешь ты все... Вбил себе в голову, – едва слышно мямлил я, взглядывая на Гавроша сквозь набухшие веки: свинцовая тяжесть заливала глаза, хоть спички вставляй, рот раздирало зевотою (так хотелось спать в предутренние часы), и ватный язык с трудом шевелился.
Тут за ближайшим кустом гулко шлепнуло, будто портомойница ударила по белью деревянным валком, завозился там поросенок, кажется, даже запохрюкивал, родимый, и в мелкой ржавой травяной осыпи показалась горбатая спина. Сердце мое при виде брюхатой рыбины, истекающей икрою, екнуло и зачастило по-дурному, я даже подался с лодки вперед, протянул навстречу руки, чтобы залучить ее в объятия, и сердце ожег жадный охотничий интерес. Я уже позабьи, как плодится лещ, притираясь боками и брюхом к осоке, изгоняя икру, как дружной ватагой, уже ничего не стережась в предутренней тишине, спешат к мамке молоканы, обволакивая ее своими телами. Восторг-то какой, словами ведь не передать то чувство прикосновения к тайне. Я хотел что-то воскликнуть торжественно-радостное, может, издать победный клич, но Гаврош торопливо цыкнул на меня, вкрадчиво раздвинул перед собою пружинистые ветви ольхи и волчьей ягоды...
Рябь побежала по всей латунной заводи, словно с нее ножом-клепиком принялись снимать стружку: то лещевое юрово в бронзовых доспехах клином двинулось с противной, темной еще стороны под заветренный берег, в щетинистый осотник, на песчаные подводные гривки, на камешник, на прогретые отмелые места. А с излуки, наискось струи, уже спешило другое стадо. Навстречу ему, нарушая строй, выскочил табунок серебряных подлещиков и давай взметываться из реки, творя особенный игривый шум и сполох. Река, кажется, закипела, камыш во всех сторонах зашатался, запоходил, принагнулся под невидимым ветром, повсюду загремело, зашлепало, будто все деревенские бабы сошлись к заводи, чтобы палками излупить замасленные мужние порты...
Заглядевшись, егерь прозевал Зулуса. Тот по-хозяйски широко, без всякой робости, работая веслом, вдруг выплыл из тростниковой стены, обогнул кипящее лещевое юрово и погнал его в притопленные у излуки сети, гулко табаня и хлыща по воде жестяной банкой, прибитой к жерди.
– Не спеши, Тема, не спеши, – урезонивал себя Гаврош. – С поличным возьму собаку... Сучий потрох, теперь тебе не отвертеться, собачий кал...
Гаврош калил себя и вместе с тем странно медлил, выжидал чего-то, вроде бы побаивался, хотя Зулус уже давно зачалил веслом снасть из глубины и сейчас деловито пыхтел, выпутывая из ячеи улов. Он не спешил, не оглядывался, не трусил, словно вел урок на домашней усадьбе: весь мир вокруг принадлежал ему, и только ему, и не сыскалось бы сейчас, наверное, такой силы, способной помешать рыбаку.
– Вытряхайся из лодки, – решившись, зашипел на меня Гаврош.