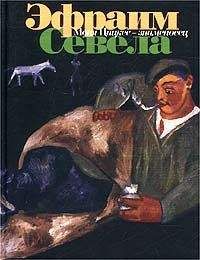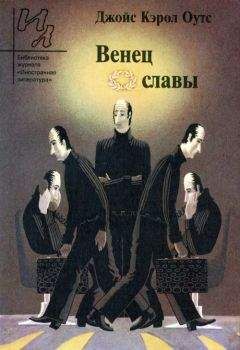Джойс Оутс - Сад радостей земных
– Это моя жена Клара…
– Это Кристофер…
Так их всех шепотом перезнакомили. Женщины были все надушенные, печальные. Один мужчина стоял и рассеянно потирал себе грудь, как будто минутой раньше ему было больно и он уже об этом забыл.
– Да. Что ж, – вздохнул кто-то.
Все медленно двинулись дальше, и Кречет с ними. Клара идет немножко в стороне, и как-то она не похожа на других женщин; может, не надо ей было надевать голубое платье. Уж очень она молодая, подумалось Кречету. Такой уж воздух в этом доме, и у всех женщин на лицах морщины, от этого Клара становится слишком молодая и видно, что ей тут делать нечего. Он поднял глаза – до чего же высокий потолок, а с потолка на тяжелой цепи свисает хрустальная люстра. На что ни поглядишь, все начищенное, тяжелое, прямо давит.
Вошли в комнату вроде огромного коридора, где понаставили стульев. Полно народу. Кречет скорей поглядел вперед – вот оно: блестящий черный ящик. Гроб. Никак не оторвать глаз… тут он наткнулся на Роберта, и тот его отпихнул. Роберту тоже страшно.
– Нам надо смотреть? – спрашивает Роберт Клару.
Клара говорит – не надо, но он дергает за руку отца:
– Пап, нам надо смотреть?
Ревир не слышит. Пробирается вперед. Люди расступаются, пропускают их… Кречету вспомнился первый день в школе: все на тебя смотрят и от страха дух захватывает, так и ждешь – вот сейчас станут насмехаться, дразнить, и ни братья, никто не придет на выручку. «Братья». Пахнет смертью, во рту пересохло. А вот Кларе хоть бы что, идет рядом, а не выручит, ведь она его совсем не понимает. Смотрит, наверно, на чью-нибудь шляпку или на абажур какой-нибудь; для нее гроб – только так, случай, благодаря ему они здесь.
– Вот. Садитесь тут и сидите тихо, – говорит Ревир.
Он очень бледный.
Они остановились, натыкаясь друг на друга. Даже Кларку не по себе. Он такой неуклюжий, большой, ему здесь тесно. Клара откинула с лица выбившуюся прядку волос. Обводит глазами комнату – пожалуй, настороженно и все-таки уверенно.
– Пускай Кречет пойдет с нами, – говорит она. А сама на него и не глядит.
Ревир кивнул, но, кажется, толком не расслышал. Мать берет Кречета за плечо, это только кажется, что ее рука в белой перчатке мягкая. У Кречета кружится голова. Роберт и Джонатан смотрят на него, узкое землистое лицо Джонатана хмуро, зубы стиснуты… он всегда был такой чужой, а ведь сейчас ему Кречета жалко!
И вот они, только втроем, идут по узкому проходу. Под ногами – мягкий ковер. Внутри у Кречета все переворачивается, так беспокойно, муторно, будто волнение накипало часами и только ждало этой минуты… долгая езда, мили и мили пустынных дорог и городских улиц – все вело его сегодня вот сюда, в эту комнату, в приторную, тошную духоту.
Так, значит, в этой комнате покойник, здесь – смерть. Впереди Ревир и мать, Ревир немного наклонился, его широкие плечи заслоняют Клару и Кречета, словно затем, чтоб им не пришлось что-либо увидеть слишком быстро. Кречету не видно людей позади и по сторонам, но они все такие тихие, так сдержанно, со значением перешептываются – и вдруг смолкают, пропуская их троих. На кого они смотрят, на него или на Клару? Что же такое скрыто в нем и в его матери, что люди смотрят на них прищурясь и поджимают губы? Даже крашеные губы женщин при виде Клары беспокойно подергиваются. А она идет и идет сквозь строй взглядов и попросту ничего не замечает, хотя могла бы посмотреть по сторонам – ведь вот он, Кречет, все видит, ему и смотреть не надо. Он быстро, прерывисто дышит. Кажется, вот-вот упадет. Надо ж было съесть ту жареную сосиску и кусок торта, который дала ему Клара, теперь в животе все переворачивается уже не только от волнения… Через силу он все-таки с этим справляется.
– Сюда, миленький, – говорит Клара.
Голос ее звучит откуда-то издалека. Она опять берет его за плечо, подталкивает… и вдруг перед ним лицо старика, старик лежит на спине, а ведь все в этой комнате стоят или сидят…
У Кречета застучало в висках. Старик похож на Ревира, он тоже Ревир, еще один Ревир. У него длинные, жесткие, совсем белые волосы, только вокруг худого лица, на лбу, на висках они коротко подрезаны. Глаза закрыты. Губы сжаты как-то сердито, обиженно, и от них тянутся книзу недобрые складки. А шея вся сплошь в морщинах, только по ним и видно, что он и вправду очень старый. Кречету не оторвать глаз от этого старика. Уже не чувствуется на плече рука Клары. Здесь какая-то тайна, что-то надо понять… Но что же это значит? Цепенеешь от ужаса. Так бывает иногда перед тем, как тебя вырвет. Но сейчас желудок ни при чем, тут все дело в голове, что-то жужжит и гудит в голове… какие-то слова пробиваются, и надо услышать… Кречет оглянулся на Ревира. Отец, его отец, стоит рядом, лицом он так похож на этого покойника, смотрит серьезно и даже угрюмо, будто эта смерть ему досадила…
И внезапно перед глазами – другой отец, смутный, едва различимый облик… мелькнул в мыслях и исчез.
Может быть, старик в гробу пошевелился? Нет, не шевелится. Глаза его закрыты и уже никогда не откроются.
– Мам… – в ужасе шепнул Кречет.
Она хотела его оттолкнуть, отвести в сторону. Но он словно окоченел. Смотрел на губы мертвеца, на его нос. Настоящий мертвый нос. В нем нет ничего человеческого: восковой, совсем мертвый. Кречет потрогал свой нос – тоже почему-то холодный, будто мертвый. К нему наклонился Ревир. Что-то сказал, назвал имя: Кристофер. Кречет слышит, но ведь это имя к нему не относится. Это чужое имя, так зовут кого-то другого, незнакомого, кого он знает не лучше, чем Роберта, Джонатана, Кларка и Ревира.
Что-то блеснуло – нет, это не покойник подмигнул, это что-то другое. Кречет мотнул головой, пытаясь отогнать наваждение: лицо того, другого отца. За спиной у того человека – бескрайнее, безоблачное небо. От него пахнет дорогой, простором. Что же он тогда сказал? Слова слышатся будто из-за двери – приглушенно, дразняще, разобрать бы. Что-то про смерть. Смерть, умирать, мертвец… вот здесь лежит мертвец, но что это значит? Разве это важнее, чем когда издыхает собака? Или когда кошка заснула под колесами, а машина тронулась и раздавила ее? Разве это важнее, чем смерть водяных крыс, за которыми так охотится Роберт? Почему важнее?
Клара потянула его прочь. А у него будто ноги приросли к полу, он весь странно отяжелел. Стал тяжелый, как этот гроб. Столько цветов нагромоздили вокруг покойника – и вокруг него тоже, цветы нависают над ним, и, наверно, это от их запаха так кружится голова.
– Идем, Кристофер, – говорит Ревир.
– Идем, – говорит Клара.
Кречет поднимает глаза. Хочется спросить: почему этот человек умер? Клара побледнела, но губы у нее не дрожат. Красивая она. Рядом с нею Ревир совсем как этот покойник в гробу, но это видно одному только Кречету… а потом он опять поглядел на Клару – у нее немного выдаются скулы, они чуть-чуть порозовели от волнения, а нос прямой и тоже мертвый… вот с таким лицом и умирают, ложатся в гроб, под тяжелую крышку – навсегда. Так, значит, она тоже умрет, а она этого не знает… и Ревир тоже умрет и тоже об этом не знает… Глаза у Кречета горели. Он покорно дал Кларе оттащить его куда-то, наткнулся на нее, едва не упал, выправился, а перед глазами все стоит лицо покойника, и слышится голос… эти мертвые губы могут заговорить в любую минуту, быть может, поздно ночью, когда стараешься уснуть; или, когда наконец уснешь, голос послышится уже сквозь сон – еле слышный, дразнящий, и непременно надо понять, ведь этот голос повторит слова того, другого отца, которого Ревир никогда не видал, а сам Кречет видел только один раз. Нестерпимое волнение долгого дня обернулось какой-то гнилостной, мерзкой сладостью во рту, и выплюнуть нельзя, потому что все на тебя смотрят.