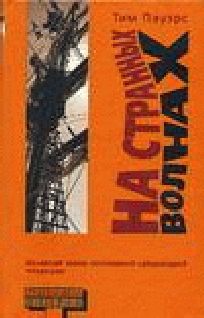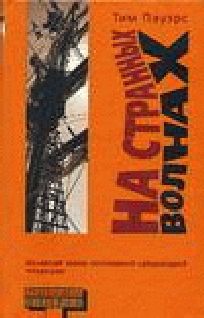Верхний ярус - Пауэрс Ричард
«Да. Тс-с. Меня разыскивают в трех штатах».
Их лица безжалостным образом обмениваются информацией. Движение мышц — будто самое неторопливое в мире слайд-шоу. Ужас, стыд, отчаяние, надежда: череда жизней, каждая длиной три секунды. Через час острова эмоций смывает в открытое море. Два лица увеличиваются в размере; рты, носы и брови расширяются до масштабов Рашмора [71]. Истина витает между ними огромным туманным облаком, соприкоснуться с которым мешает собственная телесность.
Еще час. Посреди бесконечной скучной пустыни вырастают немыслимо высокие горы. Новые уничтоженные воспоминания прорываются откуда-то снизу — как много в этом зацикленном смотрении друг на друга моментов, которые возрождаются, чтобы вновь сгинуть. Воспоминания множатся, словно головы гидры, и длятся дольше жизней, которые их породили. Стефани видит. Теперь сомнений нет: она животное, всего-навсего аватар. Другая женщина — такой же дух, заключенный в темницу материи, пребывающий в заблуждении относительно своей автономности. И все же они соединены, связаны друг с другом, пара мелких божеств, которые успели пожить и ощутить все, что только можно. У одной возникает мысль, которая тут же становится мыслью другой. Просветление — совместное предприятие. Для него необходим другой голос, который скажет: «Ты не ошиблась…»
«Если бы я только помнила об этом в реальной жизни, под огнем! Я бы исцелилась».
«Лекарства не существует».
«Это все? Будет что-то еще? Наверное, мне пора». «Нет».
На третьем часу истина бушует, неукротимая и жуткая. Из потаенных убежищ выходят откровения, которые выгнали бы из любого клуба, кроме этого — членство в нем нельзя отменить.
«Я лгала своим самым близким друзьям».
«Да. Я позволила матери умереть без присмотра».
«Я шпионила за мужем и читала его личную переписку».
«Я счистила кусочки отцовского мозга с камней на заднем дворе».
«Мой сын не хочет со мной разговаривать. Он говорит, я разрушила его жизнь».
«Да. Я помогла убить свою подругу».
«Как ты можешь смотреть на меня?»
«Есть вещи и посложнее».
Солнечный свет меняется. Тонкие полосы ползут по стенам. Стефани гадает: это все еще «сегодня», или оно уже миновало. Ее зрачки попеременно сужаются и расширяются, от чего комната то погружается в полумрак, то делается ослепительно яркой. Она не может даже собраться с силами, чтобы встать и уйти. Все закончится, когда не сможет продолжаться. И они расстанутся на веки вечные.
Ее глаза горят. Она моргает, оцепенелая, онемевшая, голодная как волк, разбитая; ей нужно поскорее опорожнить мочевой пузырь. Что-то мешает дышать — эта хрупкая женщина со шрамом, которая не отводит взгляд. Пронзенная взглядом, Стефани становится чем-то другим, чем-то огромным и неподвижным, раскачивающимся на ветру и поливаемым дождем. Весь список неотложных потребностей — то, что она называла своей жизнью — сокращается до поры на нижней стороне листа; лист — крайний на ветке, которую треплет ветер; ветка — часть кроны, то есть общества — дерева настолько огромного, что его никто не может охватить одним взглядом. А где-то внизу, под землей, в перегное, по корням смирения текут дары.
Ее щеки напряжены. Она хочет крикнуть: «Кто ты? Почему не остановишься? Никто и никогда не смотрел на меня так, разве что желая осудить, ограбить или изнасиловать. За всю мою жизнь, от начала до сегодняшнего дня, ни разу…» Она краснеет. Медленно, тяжело и недоверчиво качает головой, начиная плакать. Слезы живут своей жизнью. Это называют «рыданием». Терапевт тоже плачет.
«Почему?! Почему я больна? Что со мной не так?» «Одиночество. Но дело не в том, что тебе нужны другие люди. Ты оплакиваешь то, чего толком не знала».
«Но что же оно такое?..»
«Великое, сложное, неукротимое, пронизанное взаимосвязями место, которое невозможно заменить. Ты даже не догадывалась, что способна его потерять».
«Куда же оно исчезло?»
«Растратило себя, сотворив нас. Но все равно чего-то хочет».
Стефани вскакивает с кресла, хватается за незнакомку. Обнимает ее за плечи. Кивает, плачет, кивает. И незнакомка ей позволяет. Конечно, это скорбь. Скорбь по чему-то слишком великому, чтобы его можно было осознать. Мими отступает, чтобы спросить, все ли в порядке со Стефани. Достаточно ли она в порядке, чтобы уйти. И сесть за руль. Но Стефани, приложив палец к губам терапевта, заставляет ее умолкнуть навсегда.
Преображенная женщина открывает дверь на Гайд-стрит. Два маляра на строительных лесах орут друг на друга, перекрикивая вопящее радио. Через шесть домов мужчины с тележками выгружают из грузовика какие-то коробки. Парень в грязном пиджаке и шортах, с волосами, подвязанными амортизирующим тросиком, проходит мимо, громко разговаривая: по телефону или с голосами в своей голове — у каждого своя шизофрения. Стефани выходит на улицу, и перед ней проносится машина. Яростный звук клаксона разлетается эхом на целый квартал. Она пытается удержать то, что ей только что открылось. Но машины, вопли, суета; жестокость улицы давит со всех сторон. Стефани ускоряет шаг и чувствует, как подступает былая паника. Все ее победы начинают блекнуть под воздействием непреодолимой силы — других людей.
Что-то острое царапает лицо. Она останавливается и прикасается к поцарапанной щеке. Виновник проплывает мимо: пурпурно-розовый, как на рисунке пятилетнего художника, которому плевать на правила. Из металлической решетки в тротуаре возле ее ног рвется на свободу нечто вдвое выше ее роста и вдвое шире раскинутых рук. Одна-единственная мощная дорога ввысь распадается на несколько более тонких, а те — на тысячи других, еще более тонких, и каждая полна сомнений, дилемм, покрыта шрамами, обременена историей и увенчана безумными цветами. Зрелище укореняется в ней, разветвляется, и на мгновение Стефани вспоминает: ее жизнь была неукротимой, как слива весною.
В ДВУХ ТЫСЯЧАХ МИЛЬ К ВОСТОКУ Николас Хёл въезжает в июньскую Айову. Каждая выбоина на земле, каждая запомнившаяся силосная башня в стороне от шоссе заставляет его нутро скручиваться, словно это последнее, что он видит перед смертью. Словно он возвращается домой.
Подсчеты ошеломляют — прошло так мало лет… Столько всего осталось нетронутым. Фермы, придорожные склады, объявления о церковных службах, отчаянно взывающие «Ибо так возлюбил Бог мир…» [72]. Так много отпечатков глубокого детства, неизгладимых шрамов в прерии и в нем самом. И все же каждая достопримечательность кажется искаженной и далекой, как будто он смотрит на нее через бинокль из дешевого магазина. Ничто из этого не могло уцелеть там, где он побывал.
Он едет на запад, и перед последним пригорком до съезда его пульс учащается. Он ищет взглядом одинокую мачту на горизонте. Но там, где должна быть колонна Каштана Хёлов, только всепоглощающая июньская синева. Он покидает шоссе и следует по прямой длинной дороге к ферме. Только это уже не ферма. Это фабрика. Хозяева срубили дерево. Он паркует машину на обочине гравийной дороги, проехав лишь полпути, и идет через поле к пню, позабыв, что поле уже ему не принадлежит, и он не может здесь гулять без разрешения.
Через сто пятьдесят шагов видит зелень. Десятки свежих побегов каштана прорастают из мертвого пня. Он видит листья с перистым жилкованием и зубчатым краем, копья из детских лет, когда он даже не думал, что «лист» может выглядеть иначе. На несколько ударов сердца все воскресает. Потом он вспоминает. Эти молодые ростки вскоре тоже погибнут. Они будут умирать и воскресать снова и снова, достаточно часто, чтобы смертоносная зараза продолжала существовать в свое удовольствие.
Он поворачивается к дому предков. Взмахивает руками, чтобы успокоить всех, кто мог бы наблюдать из гостиной. Но на самом деле не дерево умерло, а дом. Вагонка отходит от стен. На северной стороне водосточная труба сломалась пополам. Николас бросает взгляд на часы. Пять минут седьмого — обязательное время ужина на всем Среднем Западе. Он пересекает заросшую сорняками лужайку и подходит к восточным окнам. Они мутные, пыльные, не блестят; по ту сторону темнота и ничего кроме. Вертикальные брусья, рейки, верхние перемычки и прочие детали деревянных оконных переплетов превратились в покрытую краской труху. Прикрыв глаза одной рукой, Николас заглядывает внутрь. Гостиная его бабушки и дедушки заставлена металлическими тазами и канистрами. Дубовая отделка, которая украшала в доме каждый дверной проем, содрана.