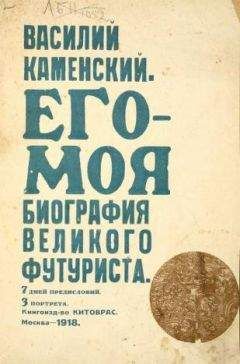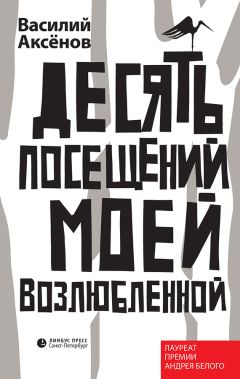Василий Аксенов - Вольтерьянцы и вольтерьянки
Девочки пришли в восторг. Давно уж они не писали парсун маслом в две руки. Сердечное томление отвлекало от искусства, и вот теперь появилась возможность заполучить в качестве модели вечно занятого папочку, и даже романтические шевалье были забыты. Холсты, кисти и краски были, разумеется, найдены в запасах генерала Ксено, дальновидного до чрезмерности. И вот троица уселась. Боже, замирали принцессы, как он хорош, этот наш курфюрст, сколько силы может живописец обнаружить даже в его носогубных морщинах, не говоря уже о высоком его челе, вмещающем толь много вдохновенного гуманизма! Что уж тут тужить о горячих обеденных сервировках, можно и сухими бисквитами обойтись, ежели все обыденное забываешь, трудясь в искусстве!
А папочка на сих сеансах едва ли не впадал в сущий родительский трепет. Дочки мои, удвоенный вариант девичьего, да что там, просто человеческого совершенства; какой монарх не поблагодарит судьбу за сей дар небес! Как же так получилось, что я не могу им обеспечить даже горячего питания?! Да я хоть треть нашего пфальца отдам за то, чтобы вздуть огни на кухне, если не дотянем мы до обещанного Фон-Фигином векселя из Петербурга!
И вдруг оказалось, что можно еще повременить с продажей Бреговины, и произошла сия передышка благодаря героическому подвигу курфюрстины Леопольдины-Валентины-Святославны. Однажды воскресным утром она вышла из замка во главе целой компании статс-дам и фрейлин двора, то есть своих родственниц по линии супруга. Вся эта группа, персон не менее дюжины, в затрапезных платьях пешком проследовала в Цум-Линденбрюгге, крошечный городишко рыбаков и овощеводов. Там в тот день все население острова Оттец собралось на базар и молебен в единственной кирхе. Публика была потрясена явлением курфюрстины со свитой. Затрапезные, то есть вышедшие из моды, одеяния показались островитянам верхом роскоши, французскому языку они внимали, как стрекотанию ангелов. Преклонив колени в скромном храме, дамы проследовали в торговый ряд и там обменяли несколько пустяковых колечек на количество лососей и овощей, достаточное для заполнения двенадцати объемистых корзин.
Сей, собственно говоря, первый в истории поход «в простые люди» невероятным образом взбудоражил и вдохновил участниц. Курфюрстине не пришлось убеждать их в пользительности деяния и упрашивать о продолжении усилий. С веселым гоготом гусынь дамы устремились в кухонный зал и вздули там еле тлеющий огонек айне гроссе гастрономи. Плита загудела. На шум, бросив рисование любимого папочки, прилетели курфюрстиночки и, подоткнув парижские платьица, взялись за швабры. В конце концов на помощь высшим дамам отчизны спустились и чопорные горничные. Некоторые еще помнили, как чистят рыбу. Так впервые за две недели в Доттеринк-Моттеринк был приготовлен горячий ужин.
Все пошло если и не хорошо, то вполне сносно. Мужчины, снисходительно похваливая дам за благотворные связи с новыми подданными, после сытных, хоть и слегка подгоревших, чуточку пересоленных ужинов собирались в каминной, где еще недавно звучал звонкий старческий глас Вольтера, и обсуждали кое-какие военные планы на случай изменения геополитической толи экспозиции, толи диспозиции. Все почему-то связывали эти планы с возвращением каких-то «наших». Вот наши вернутся — и тогда все будет яснее. Да, с приездом наших разберемся в этой довольно хитрой ситуации. Может быть, наши еще недостаточно опытны, но уж решительности-то у них не отнимешь. Те, кто дрался под Цюкеркюхеном, значит все присутствующие, помнят атаку наших, не правда ли, господа? Помните, как замелькали эти желтые с синим накидки? Мы-то думали, шведы нам бьют в задницу, а это, оказывается, наши со своими гусарами скачут. В этом месте любой, даже невнимательный читатель смекнет, что за словцом «наши» скачут не кто иные, как юные шевалье вольтеровского эскорта, Мишель и Николя.
И никто почему-то не задается вопросом, зачем этим уношам возвращаться на заброшенный островок, всем и так вроде бы ясно, что скачут, скачут на своих мифических конях, чтобы припасть к чьим-то туфелькам, поцеловать краешек платья, раствориться в любовном блаженстве.
Увы, раньше наших унцов на остров возвратились те, кого меньше всего ждали.
Однажды ночью Магнус Пятый проснулся, услышав долгий, будто бы даже бесконечный, идущий снизу, вот именно из утробы, и поднимающийся до самых верхних альвеол вопль своей супруги. Вскочил, налетел в темноте на кресло, зажег свечу, понес ее перед собой, побежал на дрожащих ногах, ничего не понимая, а только лишь взывая к Тому, в ком всегда сомневался. Никогда прежде сдержанная цесаревна ничего подобного из себя не извергала, даже при мучительных родах двойняшек, когда он сам чуть не отдал душу Тому, в ком сомневался.
Первое, что он узрел в ее спальне, были два масляных факела. Их держали два человеческих чудовища. Затем в бликах огня узрел он на кровати растопыренные ноги Леопольдины-Валентины, а между ними, в глубине среди подушек, ея зияющий рот. С одной стороны кровати, завязывая гульфик, спускалось еще одно человеческое чудовище, с другой стороны, развязывая гульфик, громоздилось на кровать чудовище четвертое.
Пятое чудовище, как видно, уже пресытившееся его любимой, его красавицей цесаревной, всем смыслом его не очень-то лепой жизни, сидело в кресле между двумя факелоносцами. Оно имело примечательную внешность со своей ярко-рыжей бородою и рваной ноздрею. Увидев монарха, как он был, в длинной ночной рубахе и колпаке, без коего в ту эпоху не отходил ко сну ни один джентльмен, чудовище зашлось от хохота: «Сам! Сам пожаловал! Эй, рейтары, встать по стойке „смирно“ перед Его Высочеством!» В пасти его не хватало резцов, зато с клыками было все в порядке.
Взвизгнув в полном беспамятстве, курфюрст пронесся от дверей по обширной спальне к кровати и со всего размаху воткнул свечу насильнику меж ягодиц. К воплям курфюрстины и хохоту краснобородого присоединился рев обожженного. Началась страшная возня, в ходе которой вспыхнул и прогорел тюлевый балдахин. Нечеловеческим усилием Магнусу удалось завладеть палашом одного из чудовищ и тут же погрузить его в жирное пузо другого. Хлынула кровища, запахло серой. В конце концов в спальню прибежало еще несколько так называемых «рейтаров». С их помощью удалось обратать обезумевшего монарха. Он был привязан к колонне резного дуба и тут уж обвис в бессильном дрожании.
Краснобородый подошел к нему, поднял за жидкий хохол голову, заглянул в глаза. «Ты неплохо свирепствовал, Магнус Пятый! Эй, рейтары, кто хочет самого курфюрста, ой умру, поставить в раскоряку?» Не дождавшись положительного ответа, он порвал рубашку на плече суверена и своими клыками глубоко прокусил сероватую кожу. «Сорока ты окаянная», — почти ласково пробормотал он. Потом крикнул своим, которые уже обирали недвижное тело с проколотым пузом: «Тащите Магнуса в тронную залу, там разберемся!»