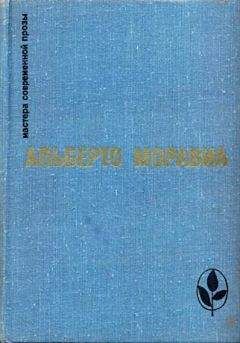Альберто Моравиа - Римлянка
— Если хочешь, я провожу тебя до дома.
— Нет… этот человек ждет меня на остановке трамвая.
Тут не было ничего нового, я продолжала приводить домой мужчин, и Мино знал об этом. Он спокойно ответил:
— Как угодно… тогда увидимся завтра.
В знак согласия я опустила веки, и он начал протискиваться сквозь толпу к выходу.
И в ту минуту, глядя, как он удаляется, я почувствовала страшное отчаяние. Сама не знаю почему, я подумала, что вижу его в последний раз.
— Прощай, — прошептала я, провожая его взглядом, — прощай, любовь моя.
Мне хотелось крикнуть ему: подожди, вернись ко мне, но у меня пропал голос. Трамвай остановился, Мино вышел, и трамвай снова тронулся.
Всю дорогу ни я, ни Сонцоньо не обмолвились ни единым словом. Я успокаивала себя тем, что священник, должно быть, ничего не рассказал в полиции. С другой стороны, немного подумав, решила: не так уж это плохо, что я встретила Сонцоньо. Мне представился таким образом случай раз и навсегда рассеять свои сомнения относительно исхода моей исповеди.
На остановке я встала, вышла из вагона и, не оглядываясь, направилась вперед. Сонцоньо шагал рядом со мною, и, чуть-чуть повернув голову, я разглядывала его фигуру. Наконец я не выдержала:
— Что тебе от меня надо? Зачем ты идешь ко мне?
В голосе его прозвучало удивление:
— Ты ведь сама разрешила.
И верно, но от страха я совсем об этом забыла. Сонцоньо приблизился ко мне и взял меня под руку, крепко прижав ее локтем. Я невольно задрожала всем телом.
— Кто это был? — спросил он.
— Один мой друг.
— Джино ты с тех пор видела?
— Ни разу не видела.
Он незаметно огляделся вокруг:
— Не знаю почему, но с некоторых пор мне чудится, что за мной следят… только два человека могут предать меня… ты и Джино.
— При чем здесь Джино? — чуть слышно спросила я, но сердце мое бешено колотилось.
— Он знал, что я понес пудреницу ювелиру… я ему даже назвал его имя… Джино не знает точно, что это я убил ювелира, но вполне мог догадаться.
— Для Джино нет никакого смысла доносить на тебя… Это все равно что донести на самого себя.
— Я тоже так думаю, — процедил он сквозь зубы.
— Что касается меня, — продолжала я самым спокойным голосом, — то можешь поверить, я никому ничего не говорила… что я, дура… ведь я тоже попаду в тюрьму.
— Я на тебя рассчитываю, — с угрозой произнес он и добавил: — С Джино я недавно виделся… он в шутку сказал мне, что многое знает… я неспокоен… Он такой мерзавец.
— В тот вечер ты действительно обошелся с ним нехорошо, и теперь он тебя ненавидит.
Когда я говорила это, я почти надеялась, что Джино и в самом деле донесет на него.
— Великолепный был удар, — подхватил Сонцоньо с мрачной гордостью, — после него у меня два дня болела рука.
— Джино не пойдет доносить на тебя, — заключила я, — ему это невыгодно… а потом он слишком тебя боится.
Мы шли рядом и разговаривали приглушенными голосами, не глядя друг на друга. Спускались сумерки, голубоватый туман окутывал темные городские стены, белесые ветви платанов, желтоватые дома и уходящую вдаль аллею. Когда мы дошли до подъезда, я впервые остро ощутила, что изменяю Мино. Я хотела было внушить себе, что Сонцоньо мне так же безразличен, как и все прочие мужчины, но я-то знала, что это не так. Я вошла в подъезд, прикрыла дверь и, остановившись там в полной темноте, обернулась к Сонцоньо:
— Послушай, — сказала я, — тебе лучше уйти.
— Почему?
Мне захотелось сказать ему всю правду, несмотря на ужас, который он внушал мне.
— Потому что я люблю другого и не хочу изменять ему.
— Кого? Того самого, который ехал с тобой в трамвае?
Я испугалась за Мино и поспешно ответила:
— Нет… другого… ты его не знаешь… а сейчас, пожалуйста, оставь меня и уйди.
— А если я не желаю?
— Разве ты не понимаешь, что не всего можно добиться силой?.. — проговорила я.
Но я не успела кончить фразу. Страшная пощечина ожгла мне лицо. Я не видела в темноте Сонцоньо, не видела, что он замахнулся, я даже не поняла, как это случилось. Потом он сказал:
— Иди!
Опустив голову, я быстро направилась к лестнице. Сонцоньо снова схватил меня под руку и помогал преодолевать каждую ступеньку, мне казалось, что он приподнимает меня над землей и я парю в воздухе. Щека моя горела, но сильнее всего меня удручало мрачное предчувствие. Эта пощечина будто оборвала счастливый период моей жизни, и для меня снова начиналось трудное и страшное время. Меня охватило отчаяние, и я решила во что бы то ни стало избежать той участи, которую смутно предугадывала. Сегодня же я уйду из дома, укроюсь у чужих, например у Джизеллы или в меблированных комнатах. Так, занятая своими мыслями, я не заметила, как вошла в квартиру, миновала прихожую и очутилась в своей комнате. Я пришла в себя, вернее, очнулась, уже сидя на краю постели, а Сон-цоньо в это время своими точными и размеренными движениями снимал с себя одежду и аккуратно складывал ее на стул. Гнев его прошел, и он спокойно сказал мне:
— Я хотел прийти раньше… да не мог… но я все время думал о тебе.
— Что же ты думал? — машинально спросила я.
— Что мы созданы друг для друга. — Он остановился, держа жилет в руках, а потом многозначительно добавил: — Я даже решил предложить тебе одну вещь.
— Какую?
— У меня есть деньги… давай поедем вместе в Милан, у меня там куча друзей… я думаю приобрести гараж… и там в Милане мы сможем пожениться.
У меня внутри словно бы все оборвалось, и я почувствовала такую слабость, что закрыла глаза. Впервые после Джино мне предлагали выйти замуж, и это предложение мне делал Сонцоньо. Я так мечтала о нормальной жизни с мужем и детьми, и вот теперь моя мечта могла осуществиться. Но эта нормальная жизнь сводилась к простой видимости, по сути же такая жизнь была бы ненормальной и безобразной. Я чуть слышно произнесла:
— Как же так? Мы почти не знаем друг друга, ты меня видел всего один раз…
Усевшись рядом со мною и обняв меня за талию, он сказал:
— Ты знаешь меня лучше всех… знаешь обо мне все.
Я подумала, что он, наверно, взволнован, так как хочет выказать мне свою любовь и ждет от меня взаимности. Но возможно, все это мне только почудилось, потому что внешне он никак не проявлял своего чувства.
— Я ничего о тебе не знаю, — тихо отозвалась я, — знаю только, что ты убил человека.
— А кроме того, — продолжал он, как бы разговаривая сам с собой, — я устал жить бобылем… когда человек один, он рано или поздно натворит глупостей.