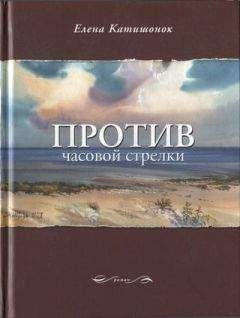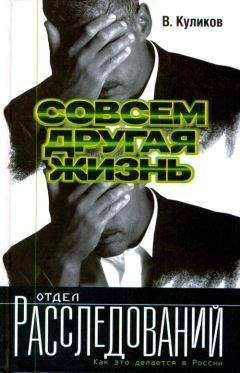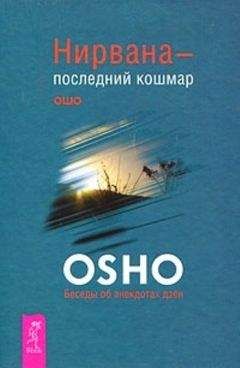Елена Катишонок - Жили-были старик со старухой
— Бабушка в больнице, — девочка гулко допила воду и снова потянулась к буханке.
Вот неделя, другая проходит… а может быть, и не успела пройти, как Таечка появилась и у крестных. Узнав о последних событиях, заахала и расценила все происходящее как «кошмар», с чем нельзя было не согласиться. Но одно дело — сидеть, вытянув губки и щелкая пальцами (была у Таечки такая привычка: сначала обхватить одной рукой сжатый кулачок другой и хрустнуть, словно кастаньетами, затем проделать то же самое с другой; что-то вроде навязчивой привычки, свойственной многим машинисткам), — так вот, одно дело похрустеть пальчиками, а совсем другое — решить, что делать с дочкой. И дело не в спанье на сдвинутых креслах, а просто ребенок живет беспризорным.
— Я Ляльку забираю, — решила Таечка, и, несмотря на всю самоотверженность этого заявления, проблема оставалась нерешенной, чтобы не сказать — осложнялась. Здесь ребенок, по крайней мере, был и сыт, и умыт, а у Тайки… Да Бог с ней, не о том надо было думать. Поэтому все осталось по-прежнему. Девочка кочевала с портфелем между двумя домами, сестры метались, сменяя друг друга, хотя особой необходимости в этом не было: как уже говорилось, мамыньку держали в больнице недолго и торопливо выписали домой — умирать.
Прав был покойный Максимыч: все повторяется. Только он заметил это так поздно, что не успел рассказать жене, иначе ее не удивила бы вдруг возникшая неприязнь к еде. Впрочем, она и не удивлялась; удивлялась Тоня. «Свеженькое, прямо с базара, — уговаривала она, — покушай немножко!» Опять появилась на сцене миска «диета», но успехом у мамыньки не пользовалась: «Что я, ребенок, что ли? Сами ешьте эту размазню». С нетерпением ждали, когда кончится пост: старуха очень ослабела, и сейчас как никогда требовалось полноценное питание.
Новый Год встретили у Тони, где же еще. Народу собралось много: пришли братья с семьями, и Тоня с сестрой то и дело вскакивали и бегали на кухню. Победно высилась елка, блестел паркет, трескучими искрами рассыпались бенгальские огни, и на какое-то время стало почти весело.
На Рождественскую службу собирались втроем. Первой оделась Лелька. Мамынька попросила Иру расправить ей платок и хорошо, что попросила: стоя за спиной у старухи и выравнивая ниспадающие складки, дочь едва успела ее подхватить. Нарядная и торжественная, Матрена тихо осела перед зеркалом на пол.
— Рожество… — выдохнула чуть слышно, открыв глаза и пытаясь поднять голову с подушки. Увидела испуганную правнучку и смятенное Ирино лицо. Приподняла руку — ох, какая тяжелая! — и сразу накатила дурнота. — Рожество. А в моленну?.. — она говорила ясно, только очень тихо и с видимым трудом.
Обе понимали, что сегодня в моленную, да и вообще никуда, она не пойдет. Была, была у Иры мысль добежать до аптеки, вызвать «скорую», как Левочка сделал когда-то. Но не двинулась; мать, только что придя в сознание, остановила — сперва взглядом, потом словами:
— Ты не вздумай… К чахо… чахоточным свезут.
Когда же кончилась праздничная служба и появились встревоженные Тоня с Федей, мамынька объяснила, что «сомлела» и «в глазах темно сделалось». Накрыла руку зятя сухой горячей ладонью и сказала:
— Не надо в больницу. Дайте мне дома… — и не договорила, да и нужды не было, как не было нужды в бодрых Феденькиных словах:
— Мамаша, да вы завтра уже на ногах… — и тоже не договорил.
Старуха взглянула укоризненно и перевела взгляд на Иру:
— Велят в больницу — не давай меня, слышишь?.. Не давай!
И уснула.
О том, чтобы ослушаться матери, не было и речи, даже если больница, которой она так боялась, чем-то смогла бы помочь. Вместе с тем Федор Федорович не мог себе представить, как пожилой человек — никогда Феденька не называл старуху, даже мысленно, старухой — как пожилой человек, с огромной саркомой кишечника, может находиться дома, без профессионального ухода и с туалетом в соседней квартире! Даже если Тоня на время переселится… куда? — здесь трое, три поколения, живут в одной комнате; и туалет от этого ближе не станет.
Совещались, сидя на кухне у стола, и Феденьке показалось вдруг, что такой недавний ноябрь, с именинами и шумным застольем, был давно-давно, чуть ли не в «мирное время»; только вот влажный запах хризантем сбивал с толку. Откуда хризантемы, одернул он себя; просто от окна холодом тянет… И услышал голос жены:
— Тогда перевезем к нам. В кабинете можно очень хорошо устроить.
Федор Федорович начал было, что мамаша, мол, хотела дома остаться, но Тоня перебила:
— Так она и будет дома — у нас. И к месту.
И стало по сему.
Труднее всего оказалось объяснить старухе, что все останется по-прежнему: перевезут ее иконы, спать будет в своей кровати…
— Ребенок! — гневно и полногласно выговаривала она бестолковым. — Ребенка кто смотреть будет?!
И опять возникла Таечка, внезапно, как черт из люка. Как ни в чем не бывало, появилась и провозгласила с вызовом, что забирает ребенка к себе, и вообще хватит. Переждав немую сцену, не стала объяснять, чего именно «хватит», а позвала девочку:
— Собирайся. Будешь у мамы жить, — и приветливо улыбнулась.
— Со мной, — негромко, но отчетливо отозвалась Ира, не обращая внимания на надутые губки и хруст пальцев, — со мной вместе.
Тоня и здесь оказалась права: мать так давно чувствовала себя у них как дома, что переселение прошло безболезненно, и старуха оказалась дома. Дома, где не нужно было щипать лучинку для растопки, где прямо из крана текла по ее желанию горячая вода, не говоря уже о весьма прозаических чудесах за дверью помещения, которое Тоня именовала «маленьким домиком», зять — заграничным словом «ватерклозет», а мать по старинке — нужником.
Действительно, в кабинете оказалось очень удобно. Любимую кушетку Федора Федоровича переставили к другой стене, перпендикулярно к шкафу с книгами, а на ее место водрузили мамынькину кровать. Неожиданно обрела второе дыхание ширма, которая доселе жила в прихожей и, если роптала, то неслышно, или же ее ропот был заглушён висящими пальто, которые только и умели, что слушать и беспомощно разводить драповыми рукавами. Теперь, будучи повышена в должности, ширма скромно намекнула на свое иностранное, чуть ли не аристократическое происхождение, предъявив в доказательство изящные инкрустации: перламутровые журавли по черному лаку на фоне подагрических японских сосен. Ширма деликатно отсекла угол кабинета с кроватью, чтобы не видно было, как умирает старуха.
Иконы перевозить она не позволила:
— На кой? Папаша, Царствие ему Небесное, вешал. Образа не трогать! Я, може, еще… — и не договорила, осеклась.