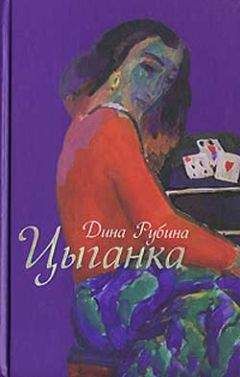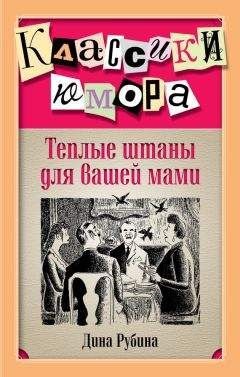Дина Рубина - Гладь озера в пасмурной мгле (сборник)
– Так где ж я нахожусь в данный момент? – спросила она. – В данный момент, в вашем романе. В финале?
– Еще не знаю, – сказала я. – Возможно... И мы почти синхронно подняли свои бокалы.
– «Прощай же, книга...»? – усмехнувшись, спросила она...
– Ну, почему же, – возразила я...
На мгновение меня коснулась мысль, вполне банальная, с давних пор ужасавшая не одного писателя: а вдруг это не я пишу о ней книгу, а она – обо мне? Вдруг не она – мой вымысел, а я – ее? И несколько секунд с тайным страхом я вглядывалась в ее насмешливое лицо...
Но вовремя опомнилась и перевела дух: она была возмутительно молода. Она не старела, – то есть обладала классической привилегией литературного героя, его преимуществом перед автором – вполне смертной особью с камнями в желчном пузыре и астмой, усугубляющейся с годами.
– Ну почему же, – повторила я мягко. – Книга только еще пишется...
***Однажды, не так давно, когда я поняла, что забыла все, совсем, помню лишь названия двух-трех улиц (давно уже переименованных), я попросила отца нарисовать план Ташкента по памяти.
Меня заботит тающая вещественность, скудеющая плотность мира, которая позволяет если не останавливать время, то хоть немного тормозить его скользящий гон.
Мой отец – художник, у него профессиональная визуальная память и прекрасное чувство ориентации в пространстве. Довольно быстро, по ходу роняя названия, он набросал карандашом паутинки улиц, обвел кружочки площадей, в центре поместил большой овал – Сквер Революции.
С тех пор каждого знакомого ташкентца я просила рисовать по памяти план города.
И каждый рисовал нечто совершенно отличное от реально существовавшей карты.
Что это значит? Страшно подумать! Что каждый жил в каком-то своем городе? В каком-то своем, вымышленном, нереальном городе? Так может быть, его вообще никогда не существовало?
***Двадцать лет спустя после отъезда я оказалась в Ташкенте по служебным делам.
Как и предполагала, с первых же минут, уже в аэропорту, пахнула мне в лицо застылая в воздухе отчужденность. Из огромного мира Города, моего города – с разноликими толпами родственников, друзей, приятелей, соседей, соучеников, знакомых и еле знакомых, а то и совсем незнакомых, но все-таки известных через кого-то людей, – остались несколько человек, застрявших здесь по разным невеселым причинам – так застревает на скале альпинист, угодивший ногой в расщелину.
Переименованные улицы, однообразная монголоидность лиц вокруг, забытое ощущение собственной детской потерянности... Я смутно узнавала какие-то перекрестки, но, как бывает во сне, не могла вспомнить – что здесь со мной происходило, кто здесь жил за углом, и почему так сжалось сердце при взгляде на гигантский платан у ворот того особнячка?
Поворачивала за угол и оказывалась в незнакомом месте.
Как в детской игре, когда, завязав глаза, тебя раскручивают до головокружения, до тошноты, затем оставляют, и ты должен нащупать правильную дорогу... Пошатываясь, протягивая неуверенные руки, с завязанными глазами ты идешь на голоса...
– Ты не была еще на Алайском? – спросил меня голос двоюродного брата. – Обязательно пойди. Ты обалдеешь! Дирекция сдала всю территорию немецким фирмам, и те грандиозно все перестроили.
Нет, я туда не пошла. Это была единственная возможность сохранить Алайский базар таким, каким он был, и должен пребывать вовеки – с мастером Хикматом, ремонтирующим старую посуду, с одноногим пьяницей, научившим ворона Илью Ивановича вытаскивать желающим судьбу из корзинки, с чистильщиком обуви айсором Кокнаром и со старухой, разложившей на газете гребешки, пуговицы и старые открытки, – пока мой экипаж, запряженный четверкой безумных лошадей, не перевернется окончательно.
***На третий день я отвязалась от сопровождающих и пустилась сама нащупывать дорогу в город своего детства и юности.
Кстати, цвела сирень – белая и чернильно-фиолетовая.
Я долго шла, влекомая утробным чувством общего направления, – словно кошка, завезенная на глухой полустанок и вываленная там из мешка.
Вдоль местного Бродвея, – в прошлом улицы Карла Маркса, ныне же с длинным непроизносимым названием, – обосновались продавцы всяческой кустарщины для туристов, и – одна из центральных магистралей в прошлом, – из-за пестроты керамики, желтого и красноватого блеска медной утвари, из-за натянутых по обочинам оранжевых брезентовых шатров общепита она сразу приобрела вид барахолки.
Возле одного такого шатра, привязанный за лапу к колышку, бродил вокруг ствола карагача встрепанный ворон, сердито выклевывая что-то в траве. Я долго смотрела на него, превозмогая желание тихо позвать: «Иль-я Ива-но-ви-и-ич!»...
Повсюду праздными группками стояли и что-то обсуждали комсомольского облика молодые люди в галстуках – местная элита.
Я шла бесцельно, как в детстве, глазея по сторонам, ведомая все тем же утробным чувством общего направления... Ощущение родного города – оно возникает спазмами.
Вдруг обнаружилось, что в центре Ташкента все еще можно встретить небольшие пустоши среди одноэтажных улочек под гривастыми платанами и тополями, – пустоши с высокой густой травой, в которой пасутся овцы.
На меня обрушились запахи ташкентских дворов по весне, сдобренные влажной духотой плодородной почвы, нежной и буйной зеленью апреля – кухонные миазмы из окон, запах вывешенного на просушку белья и прелых курпочей и чапанов, запах пасущихся овец и оброненных конских яблок, запахи травы и расцветающих деревьев... Так терпко и сладко пахнет пот любимого...
Я мгновенно ошалела и благодарно заплакала, потому что стала узнавать – не улицы, а мгновения, эпизоды моей – на этих улицах – жизни.
Оказалась на Педагогической и пошла по ней.
По пути выплывали из небытия Хореографическое училище – тяжелое сталинское здание с двумя балеринами уланов-ского облика на барельефе, Окружной дом офицеров и ТЮЗ, в котором я бывала раз двести, но который выпал из моей памяти, как стена дядькиного дома – выпал вместе с площадью и памятником, если не ошибаюсь, Навои. Или Хорезми. Бронзовый, словно аршин проглотивший, худой старик...
А свернув за угол, я увидела, как железная баба рушит старый особняк, – раскачивается и бьет, и бьет в стену дома... Большой кусок кирпичной стены ввалился внутрь, и в проеме густо засинели обои с золотым узором...
Вдруг я поняла, что бывала в этом доме...
Обрывки иностранных слов, произнесенных высокомерно-любезным тоном, закружились в моей памяти, как клочки разорванного письма в водовороте арыка: Зинаида... (отчество? отчество, черт возьми! – Анатольевна?) Антоновна!