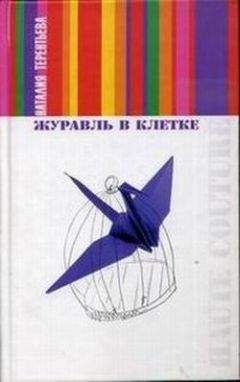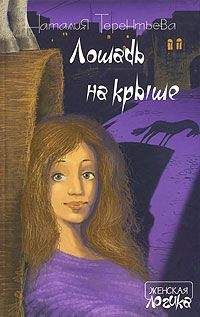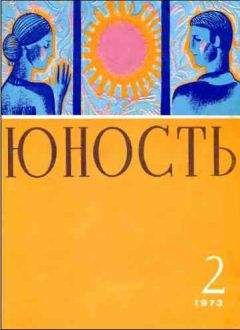Наталия Терентьева - Училка
— Я — правду-матку в глаза режу! Не буду по углам шептаться!
— Не правду-матку, а хрень вы режете, извините, конечно, — сказала Катина мама.
Пищалина стала громко хохотать и, захлебываясь, говорить всё, что знала — про спецшколу для уродов-отличников, где им вправляют мозги и оттуда они прямиком попадают в дурдом, она может подсказать адресок для Кати и Яна, про коррумпированных, сильно пьющих учителей, которые без бутылки коньяка, батона испанской колбасы за две тысячи рублей и банки черной икры пятерок не ставят. (Спрошу у Розы — кого же конкретно имела в виду Пищалина, не меня ведь? Мне еду пока никто не предлагал.) Про тотальную слежку ФСБ, про сознательное гонение на «нормальных русских ребят», чтобы истребить нацию, про то, что школа должна заниматься активными детьми, они — будущее нации, эти ребята пойдут служить в ВДВ, они спасут Россию…
Пока Пищалина выступала, пытаясь схватить за рукав то одну, то другую маму, а желательно двух сразу, кто-то ко мне подходил с вопросами, с листочками-справками, с какими-то сочинениями, в которых я не то и не так исправила. Я старалась со всеми терпеливо и спокойно говорить, краем глаза все же поглядывая за Пищалиной, чтобы она вдруг не начала бросать цветочные горшки или совершать рейд по шкафам в поисках испанской (почему, кстати, испанской-то?) колбасы или банок с икрой.
— Нет, нет, давайте, давайте, родительский комитет, мы же должны знать, на каком мы свете! Давайте посмотрим, что, никто не хочет? — Она решительно направилась к шкафам.
Я была недалека от правды.
Пищалина стала открывать шкафы, поднимать папки, снимать книги, стоящие с краю.
— А! Вот! — обрадовалась она, увидев большой пакет с непонятными предметами. — Вот что это?
— Татьяна, успокойся, ну что ты? — пыталась остановить ее чья-то мама.
Будковская стояла у дверей, ждала меня, я сама попросила ее задержаться, и молча смотрела на Пищалину. По ее лицу по-прежнему совершенно невозможно было понять, как она относится к происходящему.
— А что? Мы должны знать, что тут… Ну-ка… — Она вытрясла пакет на стол. — Это что за вещи? — недоуменно спросила она.
— Это школа собирает вещи в детский дом. Я оставила то, что принесли грязное, отнесу домой, постираю и поглажу.
— Да? — подозрительно переспросила Пищалина. Я поняла, что она бы с удовольствием продолжила, но что-то ее остановило. — Ну ладно, — сказала она. — Значит, деньги больше не сдаем? И правильно. До свидания, Анна Леонидовна!
— До свидания! — с искренним облегчением ответила я.
Я кивнула Будковской, чтобы та подошла.
— Я не знаю, что делать с Сеней, — сказала я, пытаясь по лицу, по глазам матери что-то понять о том, что происходит у них в семье, почему Семен такой.
— Я тоже, — сдержанно произнесла Будковская.
Я знала, что они обеспечены. Слышала, что отец иногда приходит в школу и хамит учителям. Но мама вела себя вполне прилично, производила впечатление нормальной, уравновешенной женщины.
— Может быть, ему ставить какие-то условия? — спросила я.
— Ставим, — вздохнула Будковская.
— Гм… ну тогда, простите, пороть. Как у вас с этим?
— Пороли, пока было кому. Мы расстались с отцом Сени, и мой сын с тех пор вообще с катушек скатился.
— Но отец с ним видится?
— Лучше бы не виделся.
— Ну я не знаю. В любом случае, пытайтесь держать его в рамках. Самый последний год детства хотя бы, тринадцать-четырнадцать лет.
Будковская кивнула, поблагодарила и ушла. Я ей не поверила. Это была ее маска. Привычная и удобная. Такую мамочку не поругаешь за сына. Она сама обескуражена, сама переживает. За что же ее ругать?
Только спускаясь с лестницы, я поняла, как же я дико устала.
— С боевым крещением! — помахала мне Лариска, которая тоже шла вниз, прыгая через ступеньку. — С Пищалкиной пообщалась?
— С Пищалиной… Да. Еле жива.
— То ли еще будет! — подмигнула мне Лариска. — Ну что, интересно? Рада, что пришла к нам?
— Не то слово! — засмеялась я. — Забыла всё, пока шло собрание. Обо всех собственных проблемах.
— Приходи завтра, послушай, что мой попугай говорит.
— А что он говорит?
— Приходи, приходи, сама послушай! — фыркнула Лариска. — Дети научили! Обхохочешься!
У школы стояла небольшая группа родителей. Катина мама, бабушка Яна, рыженькая мама Светы, еще две или три мамы. Что-то обсуждали. Когда я вышла, они повернулись ко мне.
— Анна Леонидовна!
— Да? — Я подошла к ним.
— Анна Леонидовна, конечно, ситуация двусмысленная… — начала Катина мама.
Я слегка напряглась. Это был не конец? Я думала, что кульминация была в виде рейда Пищалиной по шкафам.
— Просто мы, понятно, по другую сторону… — продолжала Катина мама.
Я от усталости не могла взять в толк, куда она клонит.
— Нам легче, у нас дети хорошо учатся, другие проблемы… Но мы хотим сказать, вот все, кто остался сейчас. Мы довольны тем, как вы учите. Неформально, конечно. Непривычно. Но детям нравится. Они думают. Дома что-то спрашивают, заводят неожиданные разговоры. Катя тут пыталась со мной Достоевского обсуждать, а я сто лет назад читала, ничего не помню. Ну, в общем, спасибо.
Я ожидала, что дальше последует «но…», смотрела на остальных мам. Те согласно покивали, поулыбались, попрощались и разошлись. Это всё? Они так смущенно, стесняясь, хотели сказать, что их всё устраивает? Ждали для этого на улице? Пищалина орала, не смущаясь, все подряд, всю хамскую хрень, которая распирала ее маленькую голову с тугими короткими кудряшками, а шестеро интеллигентных родителей, запинаясь и краснея, после собрания сказали мне, что я им подхожу как классный руководитель и учитель русской словесности для их любимых детей?
Что-то явно не так в этом королевстве… Нет, не в нашем классе и даже не в школе. Во всем королевстве.
Глава 32
Я договаривала по телефону с Андрюшкой, когда раздался звонок в дверь.
— Андрюш, хорошо, постараемся. Если все тетрадки проверю, обязательно приеду.
— Анюта, ну какие тетрадки! Возьми с собой, сядешь на веранду, пледом завернешься и проверишь. Дети так давно не общались. Евгения Сергеевна по тебе скучает. Всё, слово даешь, что приедешь в воскресенье?
— Да, хорошо. У меня кто-то звонит в дверь. Целую, до встречи!
Настя уже побежала в прихожую. Я знаю, кого она ждет. Ждет и ждет. Но говорить об этом не хочет. Ни громко, ни тихо, никак. Я пыталась, обняв ее, завести разговор о папе. Пока бесполезно. Замыкается, молчит, потому что страдает и не может выпустить своих страданий и обид. Самой себе признаться не хочет.