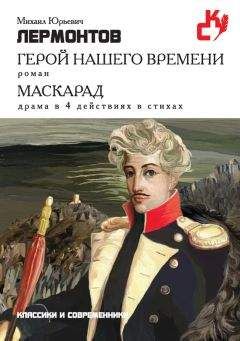Владимир Маканин - Андеграунд, или Герой нашего времени
Смеется Иван Емельянович, смеется медсестра Адель Семеновна, что с родинкой, даже мне смешно. Голос Холина-Волина: «Ну, ну!.. Смелее! Продолжайте!..» — Психиатр упоен. Психиатр демонстрирует свои возможности (а вовсе не Венины). В его мягких пасах, в его повелевающих словах власть, ликование — самоопьянение властной минутой!
А я?.. Я слушал и только виновато улыбался: поет, мол, отец... его узнаваемый голос.
Веня смолк и взглянул на старшего брата (на меня). А старший (я вижу себя со стороны) кивает в ответ, это было странно, это было немыслимо, гадко, но я ему кивнул, мол, да, да, да, — мол, они врачи знают, пой, пой, Веня, все правильно, это жизнь. (Не зря они кололи меня и вовсе не в беспорядке, как я полагал!) Вместо запальчивости и гнева во мне продолжала длиться смиренная тишина. Сердце пропускало взрывной такт, ровно один такт, но в нужную и точную секунду. А препарат, растворенный в крови, в этот контрольный миг плавно переносил мое «я», возносил в высокое воздушное пространство. Я парил. Я видел все сверху. Сердце млело.
В кабинете (вид сверху) Иван Емельянович сидит за столом и разговаривает с моим лечащим (ага! и Зюзин здесь!). Они о зарплате: больница без денег... не выплачивают второй месяц... индексация... письмо, но не министру, а замминистру! — заявляет осторожничающий Иван. А те двое заняты пением (тоже вижу сверху) — брат Веня поет, в его глазах, на щеках мокро, но едва ли от унижения, скорее от полного под гипнозом сопереживания (отец, когда пел; глаза слезились). Седоголовый беззубый Венедикт Петрович поет отцовским голосом, а Холин-Волин в упоении машет ему рукой, определяя темп властными псевдодирижерскими жестами. А где я?.. А я в стороне. Вижу свою седую макушку (вид сверху). Плечи. И мои руки, сплетясь на коленях, тихо, зло похрустывают пальцами в суставах, в то самое время как на меня (слушающего пение) накатывает волнами счастье, почему-то счастье.
Отвести Веню в его отделение — это, конечно, доверие. Мягкий приказ-просьба. Но еще и дополнительная их, врачей, доброта, мол, вот тебе на десерт: путь недолгий, а по пути вы, братья, сколько-то еще пообщаетесь. Двое, никого больше. (А то и попоете, если у вас принято, — напослед подшутил и подмигнул не столько злой, сколько пьяный Холин-Волин.) Я с радостью, я — с Веней. Коридор, казалось, для нас и сверкал. Такая весна за окнами! Не столько злой, сколько пьяный, пьяный, пьяный Холин-Волин, повторял я про себя, счастливо улыбался и был готов любить даже Холина-Волина, хоро-оо-ший же врач! У-умный!
Стоп, Веня, лифт не для нас, в обход, в обход! — мы спускаемся, марш за маршем, по ступенькам, пахнущим хлоркой. Венедикт Петрович ничему не удивляется, он рядом, покорно идет. В его покорности все же занозка, микроскопическая обида на старшего брата, который не прервал его подгипнозного пения, не вступился, когда пьяный Холин показывал свой талант (вынимал душу). Веня, впрочем, забыл. Незлобив.
Но я, видно, сам напомнил о моей вине. «Не сердись. Не сумел я», — говорю ему, потому что не хочу пропустить случая немного перед ним покаяться. (Неважно в чем.) Он кивает: да... да... да... Простил. Сначала забыл, теперь простил. Чувство замкнулось на самое себя, я обнял брата за плечо. Мы даже не знаем, чего это мы оба вдруг засмеялись, заулыбались. Так от мрамора отпадает кусок грязи, дай только ей подсохнуть. Мы дали. Родство.
А минутой позже мы попадаем в совсем иные чувственные объятия: в женские. С ума сойти: обе женщины, эти выпивохи, все еще здесь! Под мигающе-испорченной надписью выход на той же длинной скамье для посетителей (в вестибюле) сидят и закусывают Бриджит Бардо и Мерилин Монро, обе навеселе. «А говоришь, вас никуда не пускают! Лгун!» — прикрикивает Зинаида, хмыкая и обдавая запахом съеденной курицы, который я тотчас припоминаю на своих усах. Женщины и не уходили. Помахав мне тогда рукой, они не ушли, а решили, что праздник и что надо же им допить начатую. Но тогда зачем им долго возвращаться домой или искать скамейку в парке, если скамейка вот она и если они на ней хорошо сидят? «...Да и чувство мне верно подсказывало, что ты его как раз уговорил. Что уговорил и сейчас приведешь!» — поясняет Зинаида, перестав наконец радостно жать меня ручищами и наливая в пластмассовые стакашки недопитое.
Ее подруга (уже подзабыл, а ведь как остро ее хотел!) разламывает руками очередную курицу, но на этот раз не вареную, а жареную — из-под рук, из развернутого свертка нас обдает морем чеснока и вожделенной обжаркой домашней готовки. Венедикт Петрович, раскрыв беззубый рот, сронил на пол длинную струйку слюны. «Но-но!» — это я ему строго. Подсказываю: «Но-но, Веня!» — отирая ладонью еще одну набегающую его струйку и сглатывая две или три своих.
Сидим. Подруга Зинаиды (не помню имя) доламывает куриную грудку, но и времени не теряет: рукой она крепко обвила Венину седую голову. (Работала, возилась с курицей, но мужчину, прихватив, уже тоже не отпускала — мой.) Под хруст курицы я каждый раз боязливо взглядывал на Веню, все ли у него с шеей в порядке. Венедикт Петрович тоже в некотором страхе смотрел на меня, вернее, на мою ладонь, нагруженную четырьмя пластмассовыми стакашками, в них Зинаида бережно разливала принесенный прозрачный дар. Четыре стакашки покачиваются на моей ладони и тяжелеют. Я удерживаю их в равновесии. Не знаю, как теперь объявить женщинам, что никого, увы, им не привел, со мной мой брат, а вовсе не дебильно-логический Юрий Несторович.
— Не пьет. Не наливай ему, — велю я, едва горлышко наклоняется над четвертым стакашкой. Женщины делают постные лица, какая жалость!
Но выпили — и просветлели. Я тоже. Мы хрустим куриными сладкими хрящиками. Веня ест медленно, торжественно держа обжаренное птичье крыло. После каш, после каждодневной казенной ложки легкое крылышко в руке несомненно его волнует: тайники его памяти всколыхнулись (я чувствую), и в наше детство, в темную воду Времени, вновь отправляется маленький водолаз: отыскать и извлечь.
— Неужели нельзя удрать? — сокрушается Зинаида, глядя глаза в глаза более чем откровенно.
— В этих шлепанцах? В этих спортивных штанах?
— Не выпустят, думаешь?
— Думаю, не впустят. В метро.
— Если в такси, то впустят, — вторгается баском подруга. Она медлительна и деловита. И спокойна: она уже не ломает Вене шею, она его поняла, не мучая и лишь нежно оглаживая его красивые руки. (Веня ценит прикосновение.)
— Я бы не против такси, — мечтает вслух Зинаида.
Я молчу.
— А деньги — а платить чем? — фыркает Зинаида на свою же лихую мечту прокатиться до самого дома с шальным ветерком.
— Разве что натурой! — веселится басовитая подруга, размышляя тоже вслух.