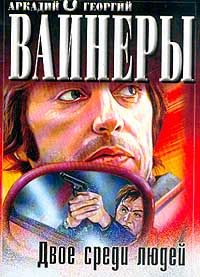Аркадий Вайнер - Петля и камень в зеленой траве
Я молчал — что я мог ему сказать?
— Нет, Алеша, ты уж, будь другом, не молчи, а ответь мне на вопрос, — он встал со стула, подошел и положил мне руку на плечо, и мне было неприятно его прикосновение, но я не решался отодвинуть его. — Я спрашиваю тебя не из праздного резонерства…
— А из чего же еще? — угрюмо отбрехнулся я. — Я — ответчик за брата своего.
— Я хочу, Леша, лучше понять людей — вообще. И тебя хочу лучше понять — в частности…
— Чего же тебе непонятно?
— А непонятно мне многое. Как получается, что молодой писатель, человек принципов и твердых убеждений, взявший себе задачу разоблачить преступность нашего общества и с риском для всей своей жизни, для благосостояния и общественного положения всей своей семьи, раскапывает историю убиения Михоэлса…
— Что-что? — поперхнулся я и сердце остановилось.
— Да-да — историю убиения Михоэлса, я не оговорился. И вдруг этот же человек бежит с наскипидаренной жопой ко мне, чтобы с помощью того же преступного беззакония отвести угрозу справедливого уголовного наказания от своего взяточника-брата. Как прикажешь мне это выстроить в сознании? Как мне это глубже освоить и понять?
Я оглушенно молчал. Севка знает о моих делах. Значит, я уже давно под колпаком. Кто-то настучал. Где-то я засветился. Все это больше не секрет.
У меня стал дергаться глаз. Я зажимал его ладонью, но он испуганно трепетал, прыгал, будто хотел изо всех сил вырваться из надоевшей ему моей башки.
И про мое поведение Севка сказал все правильно. Не проходит, видимо, даром, когда человек столько десятилетий носит маску осла.
— Мы все вместе разрушили мораль, — сказал я. — Растоптали понятия о приличиях. Больше нет нравственности. Нет морали. Но немного любви еще осталось в этом мире. Я люблю Антона. Я его любил. И хотел ему помочь.
— Все правильно, — как резиновый, подскочил Севка и быстро, допросно спросил: — А отца своего ты не любил?
— При чем здесь — любил отца, не любил? — махнул я рукой.
— При том, что ты своими изысканиями хочешь закопать в могилу еще живого папаньку. Тебе не приходило это в голову?
Я молча, тупо смотрел на него, и все мое нутро сводило от тоски и боли, которая, как судорога, охватывает в море неосторожного пловца.
— Поясни мне свою мысль, — попросил Севка. — Чтобы избавить своего брата от позора и преследования, ты готов, вместе со мной, совершить преступление. Ты понимаешь, что это — преступление? И одновременно хочешь выкопать на всеобщее обозрение, на чужой, злорадный погляд давно забытое преступление твоего папаньки? Как это следует понимать?
— Наш отец совершил преступление, имеющее общечеловеческое значение — за ним потоком хлынули бедствия целого народа, — вяло проронил я. — А от преступления Антона не пострадал ни один человек…
— Фи! Алеша! Что это за позиция для нравственного человека? Или должно быть по-нашему — все шито-крыто, или по-вашему — все пусть судит гласный суд! Разве не так?
— Так, — устало кивнул я.
— Но так не бывает и так не будет! — отрубил Севка.
— Почему?
— Потому что я понимаю не хуже тебя, что происходит вокруг. Поверь мне — ты не один уродился у нас такой умный. И хорошо, что ты пришел, потому что я все равно собирался с тобой поговорить. И предупредить тебя.
— О чем?
— Чтобы ты унялся. То, чем ты занялся, — блажь, благоглупость. Ты хочешь заглянуть мамке-родине под подол и рассказать всем, что ты там увидел. Тебе этого сделать не дадут, а растянут на колене и будут долго, с оттяжкой, очень больно стегать!
— А другие не знают, что там — под подолом?
— Кто-то знает, другие догадываются. Но все молчат. Они понимают бессмысленность твоей суетни. Пойми на примере с Антоном, что мы здесь сами уже никогда не разберемся — что хорошо, а что — плохо! Мы единственная в истории страна, призвавшая добровольно на княжение иностранцев — варягов, поскольку сами не могли разобраться со своими делами. И теперь — через тысячу лет — мы не в силах этого сделать, мы все повязаны корыстью, родством, соучастием. Надо тихо сидеть и ждать новых варягов!
— Новые варяги и воздадут всем по заслугам? — поинтересовался я.
— Может быть. Не знаю. Но нам лезть не следует. Поверь мне, Алеша, не суйся ты в эту историю, — сказал Севка, и лицо у него было уже не залихватски-веселое, а серое, напуганное, огорченное.
Все кругом — запыленное, заброшенное. Я встал, подошел к раковине и хотел завернуть кран, из которого с надоедливым острым шипением и клекотом била горячая вода. Севка перехватил меня за руку, покачал головой и одними губами прошептал:
— Не надо! Хуже прослушивается, — и показал пальцем на ухо, а потом куда-то на потолок.
— Ты не из-за меня, и не из-за отца сейчас ломаешься, — сказал я ему устало. — Ты за себя, за свое место боишься…
— Эх, Леха, дуралей — ничего-то ты не понимаешь. Я сейчас и за себя, и за тебя, и за отца ломаюсь. Я не хочу, чтобы повторилась история с праведным Ноем и его сыновьями. Я не хочу, чтобы ты демонстрировал, как Хам, наготу своего выпившего отца, я не хочу, чтобы ты был проклят, а мы с Антоном благословлены. Поверь, Алеша, я ведь тебя люблю — ты мой младший брат…
— И, как старший брат, выполняешь поручение своей конторы? Это они велели тебе пугануть меня?
Севка грустно усмехнулся:
— Они просили меня поговорить с тобой. Если мне не удастся тебя убедить, пугать они станут сами…
И вдруг я с ужасом увидел, что из его глаз текут слезы, а сам он сжался над столом, и лицо его слепо. Я бросился к нему:
— Севка, ты что, с ума сошел? Перестань сейчас же! Ты что?..
Он долго ничего не отвечал, потом глухо уронил:
— К сожалению, Бог не до конца хранит простодушных. Тебе с рук это не сойдет…
Не знаю, что они сказали ему, — может быть, убьют меня? Отказаться от роли Гамлета? Ула уезжает — ей все равно. Отец доживает в тихом зловонии нашей родовой берлоги. Антон выкрутится из неприятностей, Севка отбудет разоружать мир далее. Я в ожидании варягов вернусь в кафе ЦДЛ, буду жить там в форме пограничника, напиваться с Тауринем и спать за столиком.
Но ведь Соломон завещал мне эту небывалую роль. Кроме меня больше никто не доиграет этот спектакль — только мы с ним знаем конец пьесы. Все остальные умерли или забыли.
Может быть, они сказали Севке, что убьют меня. Но Ула все равно уезжает. Разве мне теперь дороже оставшиеся унылые десять-пятнадцать лет жизни? Долгие пустые серые дни похмельного смурняка.
Но ничего этого не объяснишь Севке, он этого понять не сможет. Или не захочет — все равно. Я только сказал ему: