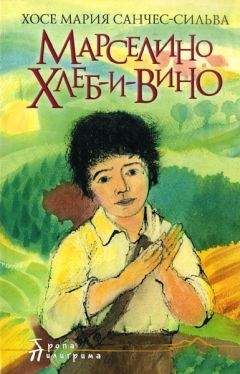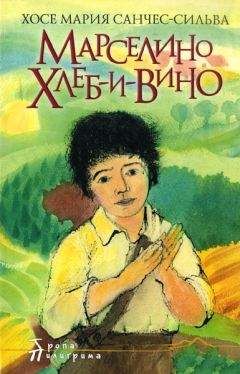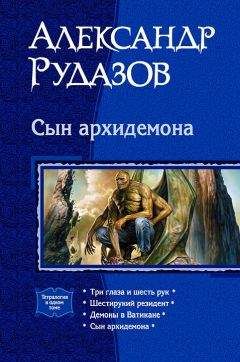Леонид Сергеев - Заколдованная
— Господи! Зачем вы это делаете, ведь мы совсем не знаем друг друга?!
Потом, когда я курил и поглаживал ее голову, лежащую на моем плече, она прошептала:
— Господи! Я делаю огромную глупость. Веду себя как шлюха.
— Женщина и должна быть в постели шлюхой, — грубовато заметил я. — В семье — святошей, в компании — королевой. Так говорил кто-то из классиков.
— Наверно, я ненормальная женщина.
— Вполне нормальная, и я сделаю тебя еще нормальней, — самоуверенно заявил я и добавил приказным тоном. — В воскресенье поедем на дачу к приятелю музыканту, там река, захвати купальник, отдохнем как следует, давно мечтаю подремать в гамаке на свежем воздухе.
За городом она, наконец, повеселела, взяла меня под руку и порывисто проговорила:
— Надо же, мы дышим одним воздухом, над нами одно небо и облака… Я сегодня такая счастливая! Прямо хочется писать на заборах, сараях: «Самый счастливый день!» — потом вдруг загрустила и неуверенно вполголоса произнесла: — Но, по-моему, быть счастливой стыдно… может быть и нельзя, потому что вокруг много несчастья. Как вспомню больных… Я два раза была в больнице… почки болели…
— Ну да, в непогоду думать о бездомных, когда наешься — о голодных, — небрежно вставил я, все больше входя в роль супермена, а про себя подумал: «все-таки в ее душе много ценного; ведь чем чувствительней человек, тем больше охватывает его взгляд, тем ближе принимает чужую боль, тем сильнее его мучения и тревоги. А ограниченный человек живет в ограниченном мире и потому страдает по пустякам и счастлив от ерунды».
На даче, увидев моего приятеля с подружкой, Вера сникла еще больше, похоже — испугалась новых людей. Как я ни пытался ее «расшевелить», ни на реке, куда ходили купаться, ни на террасе, где позднее пили вино и слушали джазовые пластинки, она так и не воспрянула. Приятель непрестанно шутил, подпевал «звездам», его подружка беззаботно, заразительно смеялась, а Вера только тускло улыбалась и вежливо отвечала, когда ее спрашивали. Она явно чувствовала себя стесненно, словно между ней и веселыми дачниками стоит непреодолимая преграда.
«Может быть, считает, что ее общество неинтересно?» — подумал я и, улучив момент, сказал:
— Вера, будь свободней, раскованней. Никто тебя здесь не обидит. Поддерживай хотя бы беседу, ну что ты куксишься?!
— Я поддерживаю беседу, — вяло отозвалась она. — Но мне неинтересно о чем говорит твой приятель и его знакомая. Я ничего не понимаю в модных пластинках.
— Ну, конечно, лучше говорить о классической музыке или об Исландии, — съязвил я, и она сразу потупилась и сжалась.
На минуту я сравнил ее с жизнерадостной подружкой приятеля и раздраженно подумал: «у нее то задумчивый, то жалобный взгляд, она ничему не радуется по-настоящему. С ней я и сам стану мрачным типом. И вообще, какое-то бездарное лето».
Вечером мы вернулись в город. Еще в электричке, как бы оправдывая свое поведение, Вера сказала:
— По-моему, музыканты и художники живут интересно, но сумбурно. Богемный образ жизни очаровывает, но и губит. Все время сигареты, вино, неразборчивые связи. Это засасывает и губит. Я знаю по знакомым Наташи… Но она сильная, для нее главное — самодисциплина… Потому и не любит сборища художников. Она любит деревню…
Мы спустились в метро, проехали до станции пересадки и Вера предложила пройтись по улицам, «такой теплый вечер» — промолвила. Она видела, что я злюсь, что мне не понравилось ее поведение на даче и пыталась загладить свою оплошность, но от волнения делала одну глупость за другой: вначале оправдывалась, говорила, что на даче разболелись почки от вина, хотя и всего-то его пригубила; потом как-то искусственно развеселилась, запела что-то и протанцевала — решила показать, что может быть такой, как все; наконец, смолкла на полуслове и в отчаянии глубоко вздохнула. В этот момент мы шли по улице Горького, внезапно она показала на арку, где начинался переулок, и прямо-таки с мольбой обратилась ко мне:
— Пожалуйста, свернем туда.
Около церкви стиснула мою руку.
— Подождите, я на минутку! — и забежала в церковь.
Вернулась с белым лицом, и, не поднимая глаз, ошеломляюще искренно проронила:
— Я помолилась, чтобы вы не бросили меня.
— Ты такая набожная христианка? — спросил я, когда мы снова вышли на улицу.
— Да, я верю в Бога. А вы разве не верите?
Я неопределенно пожал плечами и выдавил банальщину:
— Мой Бог — моя совесть.
«Динамо», как всегда, встретило нас прохладным ветром, и это обстоятельство особенно подчеркивало мое охлаждение к Вере. Проводив ее, я по пути к метро выкурил две сигареты подряд — меня обуревали невеселые мысли. Было ясно — она влюбилась не на шутку, любовь просто разрывала ее душу, к такому повороту я не успел подготовиться; надо было что-то предпринимать, как-то перевести наши отношения в спокойное русло, но как — в голову ничего не приходило. Я подумал о том, как тяжело ей живется… «наверняка страдает, что не современна, не находит контакта с людьми… Конечно, такие, как она, хорошие жены домоседки, но с ними закиснешь». Я вспомнил своих предыдущих веселых подружек, вроде дачницы приятеля, и меня потянуло к ним… Прохладный ветер, словно на крыльях, нес меня подальше от особняка.
Следующую неделю я все вечера напролет торчал в Доме журналистов, среди друзей единомышленников и веселых подружек. В пятницу нужно было появиться в радиокомитете и, представляя тревожное лицо Веры, я заранее приготовил оправданье — много работал.
Вера встретила меня не просто тревожно — ее взгляд заметался, она так разволновалась, что стала заикаться. В сквере, куда мы вышли прогуляться, она непрерывно теребила карандаш, который по рассеянности вынесла из редакции, потом взяла мою руку, стала гладить и вдруг порывисто поцеловала ее.
— Не избегайте меня! — проговорила с дрожью в голосе и отвернулась, чтобы я не видел ее слез.
«Она окончательно сломалась, — подумал я в метро. — Но как ее удержать на дистанции, если она уже привязалась и теперь наши встречи для нее — главное в жизни?! И заземлять ее бесполезно. Ее не переделаешь — она не от мира сего».
Я решил все пустить на самотек, и вечером без предупреждения поехал на «Динамо», прихватив торт для чаепития. Несмотря на пасмурное небо и пронизывающий ветер, а может быть благодаря им, особняк смотрелся особенно зрелищно, я даже задумался: «есть ли еще такой самобытный уголок в городе?».
Вера что-то читала, Наташа писала натюрморт, но как только я вошел, обе поспешно бросили свои занятия и стали накрывать на стол, при этом Наташа покрикивала на сестру больше обычного, но Вера так обрадовалась моему визиту, что этого не замечала; ее прежнюю печаль прямо-таки сдуло ветром.
— Все у вас, барышни, как-то не так, — сказал я, прихлебывая чай. — Сидите дома, точно монахини. После работы вам не мешало б заниматься спортом; Вере — для здорового цвета лица, Наташе — для новых впечатлений. Как говорят англичане: «День для трудов, а вечер для отдыха».
— Впечатлений и так полно, — ухмыльнулась Наташа. — После Строгановки зашла в магазины, постояла в очередях, такого насмотрелась, наслушалась!.. Передо мной стояли двое мужчин, и один говорит трагическим голосом: «У меня жуткая неприятность. Представляешь, меня в Швецию не пустили. В последний момент в группу впихнули кого-то из своих. Но я это так не оставлю. Правда, в этом году уже ездил в Польшу…». Вот такая у него трагедия. Он объездил весь мир, только в Швеции не был, и она ему позарез нужна… У нас каждому чего-нибудь не хватает. Одному двух тысяч, чтобы купить дачу за сорок тысяч, другому — десяти копеек на пиво. Ирония судьбы!
— У нас в редакции бывает такой автор, — оживилась Вера. — Постоянно хвастается, только и слышно: «…Получил тысячу за пьесу в Польше… Приглашают в Америку, во Францию… Не хочется ехать. Во-первых, я не летаю на самолетах — они бьются; во-вторых, там сейчас к нашим плохо относятся — еще убьют, а я нужен миру». Он считает себя гением, — пояснила Вера, обращаясь ко мне, без утайки показывая, как тронута моим приходом.
Допив чай, Наташа поднялась:
— Ну, ладно, люди! Надо проветриться. Вспомнила, я еще обещала зайти к подруге. Смотрите!.. — она хотела добавить свою присказку о поцелуях, но передумала, видимо, решила — уже не смешно.
— Как-то неловко получается, — сказал я Вере, когда мы остались вдвоем. — Наташа уходит, а наверняка хотела бы порисовать. Как-то я баламучу все у вас…
— Что вы! — Вера всплеснула руками. — Наоборот. До вас мы каждый вечер ссорились, а сейчас стали добрее друг к другу. Вы наш примиритель. Вы очень нравитесь Наташе…
До моего ухода Веру не покидал радостный настрой, но и ее радость была какой-то тихой. А когда я уходил, она проводила меня долгим тоскливым взглядом.