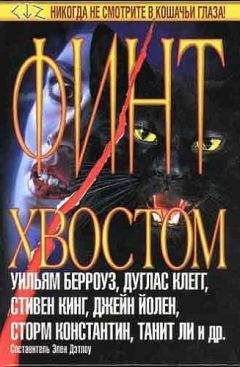Владимир Орлов - Лягушки
— Пойдём. Но прежде хоть чем-нибудь украсим стол, — сказал Ковригин.
— Здесь есть, — Дувакин похлопал по чёрному, кожаному боку «дипломата», — если не для украшения стола, то хотя бы для его уважительного состояния…
— Сейчас я наберу на кухне, в холодильнике, закуску, — сказал Ковригин. — Впрочем, прежде я могу экспонировать в Детской комнате синежтурские подносы.
И он притащил с террасы ящик, сбитый из досок, и расставил в Детской подносы.
— Скатертью я устилать стол не стану, — объявил Ковригин. — Но мы можем разместить напитки и закуску на одном из подносов.
— Да ты что, Ковригин! Кощунство предлагаешь! — возмутился Дувакин. — Это ведь и впрямь произведения искусства!
— Ты уверен в этом? — спросил Ковригин.
— Уверен! — решительно заявил Дувакин. — К тому же выйдет нарушение требований жанра.
— Каких требований жанра? — удивился Ковригин.
— По легенде Литинститута, — сказал Дувакин, — шалый, но изобретательный студент Николай Рубцов при торжествах души снимал со стен коридоров в общежитии портреты классиков — Пушкина, Лермонтова, ещё кого-то, относил их в свою комнату и пил, чокаясь с ними. Это и называлось — пить с портретами. А ты предлагаешь пить не с подносами, а пить с подноса…
— Действительно, эко я попал впросак… — сказал Ковригин. — Ну, всё. Кушать подано.
А Дувакин ходил от подноса к подносу, губами шевелил, высказывался:
— Именно произведения искусства. Примитивного, простодушного, смешного, схожего с лубком, но искусства.
— Замечательно, — сказал Ковригин. — Но давай устраивайся на диване. Рюмки на своём месте.
Дувакин, спохватившись, вспомнил о предназначении «дипломата» и достал бутылку коньяка «Старый Кенигсберг». А уже украшала низенький столик, бывший детский, запотевшая бутылка «Флагмана».
44
— И кто же одарил тебя столь ценным презентом? — спросил Дувакин.
— Господин Острецов, — сказал Ковригин. — Предприниматель и меценат. Владетель замка Журино. Если, конечно, он и есть владетель. Его презент. Якобы за мои культурологические опусы. Он читает «Под руку с Клио». И якобы за честь, оказанную Синежтуру, предоставлением права на постановку «Маринкиной башни»… Но есть тут некая уловка. Или ловушка. Я должен для господина Острецова нечто в Журине отыскать… То есть ему так хотелось бы… Давай выпьем. И вот вдогонку шпроты и вот селёдка с луком…
— Считалось, что синежтурский промысел лаковой живописи утих ещё в конце девятнадцатого века, — отправив селёдочный кус в желудок, заговорил Дувакин, — а он, оказывается, жив…
— Не иначе как стараниями мецената Острецова. Не бескорыстными. Нынешние подносы, в особенности с сюжетами «броня крепка, и танки наши быстры», охотно, с его слов, покупают в странах Тихоокеанского бассейна. Японцы берут и подносы с пейзажами. Так я думаю. Вот этот, коричневый с зелёным, поход лягушек, — явно для них.
— Мы длинной вереницей идём за Синей птицей, — пропел Дувакин.
— И мне эти слова пришли в голову, — сказал Ковригин.
— И что это за птица такая? — задумался Дувакин. — Явно не синяя.
— Откуда я знаю, — сказал Ковригин. — Может, воздушный корабль, дирижабль, предположим, старомодный, — раз похож на сигару. А может, и какая несусветно-межпланетная посудина, ковчег какой-то для переселения в благостные просторы.
— Слушай, Сашка! — в воодушевлении воскликнул Дувакин (а и ещё выпили). — А эта-то картина украсит твой текст! Дадим в цвете!
Он сейчас же замолчал, глядел на Ковригина настороженно, в ожидании, что приятель его возмутится и заявит, теперь уж окончательно, что печатать своё дерьмо никому не позволит.
Но не последовало от Ковригина окончательного заявления.
— И что ты будешь делать с этими подносами? — спросил Дувакин. — Где разместишь?
— Это я объяснил и господину Острецову, — сказал Ковригин. — Принять его презент я отказывался. Но в связи с тем, что он читатель «Под руку с Клио», я пообещал передать подносы журналу для украшения стен, если там посчитают это приемлемым.
— Посчитаем! — воскликнул Дувакин, глаза его горели. — Конечно, посчитаем!
Тут же он, видимо, сообразил, что столь пылкое выражение радости подтвердит мнение о нем как о человеке с руками загребущими. (Впрочем, чьё мнение? Сашки Ковригина, который и так знал о нём всё, как о куре в ощупе, да и какой издатель мог существовать нынче без рук-то загребущих?) Но так или иначе Дувакин замялся, рюмку с водкой поднёс ко рту и принялся проявлять великодушие и даже широту натуры.
— Спасибо! Спасибо! Завтра же обрадуем коллектив. Но ты себе хоть один поднос оставь. Вещи ведь музейные!
— Н-ееет! Ни единого! — заявил Ковригин, угощая себя красной рыбой. — А музейные подносы, числом — сто восемь, висят именно в музее Среднего Синежтура.
— Ну, вот хотя бы этот с вереницей и воздушным кораблём. А то совесть будет меня угнетать…
— И этот пусть будет у вас, — сказал Ковригин. — Тем более что с него вы намерены делать иллюстрацию к запискам Лобастова…
Слова последние по своей воле, не спросив разрешения у Ковригина, вылетели из него.
— Значит, ты даёшь добро, — вскричал Дувакин, — на публикацию записок Лобастова! Так понимать?
— Завтра решу, — пробормотал Ковригин. — На предварительных условиях. Гонорар брать не буду.
— Какие мы щепетильные! — усмехнулся Дувакин. — А рыбу красную едят. Малосольную! Гонорар-то тебе будет платить журнал, а не Быстрякова, не её фирма и фонды.
— Но откуда у журнала деньги возникнут? Не от сил ли неведомых, не от крыс ли каких водяных или тритонолягушей?
— Ты, Ковригин, меня обижаешь! — запыхтел Дувакин и резко отодвинул от себя рюмку с водкой. — И надоел ты со своими капризами! Зря я отпустил водителя с машиной. Уже темнеет, и вряд ли я доберусь до электрички. Но, наверное, как-нибудь доберусь. Всё. Противно. Буду искать новых авторов и инвесторов.
И Дувакин встал.
Вскочил и Ковригин. Дувакин обижался редко, но сейчас, видимо, обиделся всерьёз, и, стало быть, в их многолетней дружбе мог случиться обрыв.
— Погоди, Петя, погоди! — поспешил Ковригин. — Печатайте все мои тексты, как сочтёте это нужным. Я сам себе противен в своих раздрызгах и капризах. Я — промежуточный человек!
— Что значит — промежуточный человек? — Дувакин присел.
— А то и значит, — сказал Ковригин. — Живу чужими жизнями. Оказываюсь ещё и толмачом этих чужих жизней и получаю за это деньги. Стыдно.
— Шекспир рассказывал чужие истории. Фёдор Михайлович отыскивал сюжеты в газетных публикациях…
— Ты, Петя, хватил! — вскричал Ковригин. — Они-то — кто? А я всего лишь Ковригин. Популяризатор.
— Не вскипела ли в тебе, Саша, планетарная претензия? — сказал Дувакин. — После спектакля в Синежтуре? И чем же плохо или постыдно популяризаторство? И Моруа был популяризатор. Чем он плох? Представляю, каким надменным творцом ты выслушивал просьбы господина Острецова.
— Его просьбы как раз и были связаны со вторичностью моей натуры.
— То есть?
— Ему взбрело в голову, — сказал Ковригин, — что я могу совместиться с личностью моего отца. Острецов уверен, что я в Журине вспомню всё мне рассказанное, во мне возродятся ощущения отца, подробности его воспоминаний, и я помогу разгадать некую тайну. Главное, я дал ему повод так считать… В Журине я был в первый раз, но почувствовал, будто бы это не я хожу по замку, а мой отец, то есть я, но внутри сути моего отца…
— Но ведь ты и сам говорил, что тебя заносило в тела и души Колумба, Рубенса и уж, конечно, Марины из Самбора…
— Ну… — смутился Ковригин. — В тех утверждениях — преувеличение и бахвальство. Хотя… Во всяком случае там ситуации были мысленные, известные по свидетельствам и документам или созданные моим воображением, я мог быть в них свободен. Сейчас же Острецов желает вогнать меня в болезненную реальность, чуть ли не в шаманство, а тут и до дурдома недалеко… Но я не намерен скакать в чьей-то длинной веренице. Я — человек. Я — самодержавен. То есть моя держава во мне самом. И никто не может меня купить или заставить делать что-либо, для меня неприемлемое…
— Хорошо! Хорошо! — взволновался Дувакин. — Успокойся, Саша, успокойся!
Дувакин явно встревожился, как бы Ковригин не распалился вновь и не отменил своё согласие на публикацию «Записок Лобастова». Но опасения его вышли напрасными.
— Саша! — воодушевился Дувакин. — Тебя всегда тянуло к действиям авантюрным! К приключениям! Вот и поезжай в Синежтур. Я тебе командировку с бонусами оформлю по поводу открытия публике синежтурских подносов. Могу и фотографа послать. В придачу. И не возникнет неловкости явиться пред очи господина Острецова. Или ты боишься?