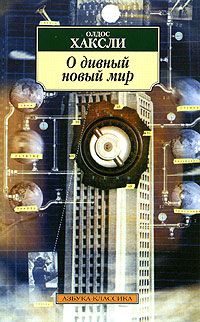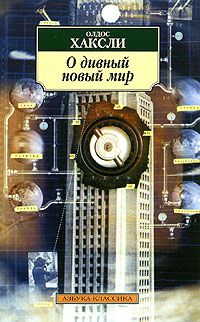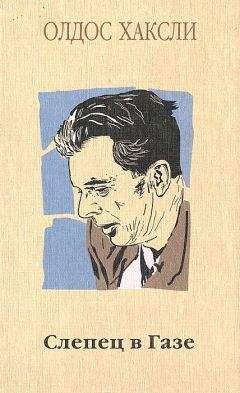Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
До раннего утра того 13 июня, когда генерал дивизии Густаво Рохас Пинулья вывел из дворца исполняющего обязанности президента Роберто Урбаньету Арбелаеса. Лауреано Гомес, штатный президент, ушедший на покой по указанию своих врачей, вновь принял тогда командование в инвалидном кресле и попытался удивить себя самого, тряхнуть стариной и править пятнадцать месяцев, которые у него еще были до конституционного окончания срока. Но Рохас Пинулья и его высшее командование пришли, чтобы остаться.
Государственная поддержка решения Учредительного собрания, которое узаконило военный переворот, была немедленной и единодушной. Рохас Пинулья был наделен властью до конца президентского срока, до августа следующего года, и Лауреано Гомес уехал со своей семьей в Бенидорм на левантийское побережье Испании, оставив позади иллюзорное впечатление, что его времена ненависти закончились. Патриархи-либералы провозгласили свою поддержку национальному примирению призывом своих однопартийцев к оружию по всей стране. Самым выразительным снимком, который опубликовали периодические издания в последующие дни, была фотография передовых либералов, которые пели серенаду женихов под балконом президентской спальни. Чествование возглавил дон Роберто Гарсиа Пенья, главный редактор «Эль Тьемпо» и один из самых яростных противников свергнутого режима.
В любом случае самой впечатляющей фотографией тех дней был снимок бесконечной вереницы партизан-либералов, которые сдавали оружие на восточных равнинах под командованием Гуадалупе Сальседо, чей образ романтического разбойника тронул до глубины души колумбийцев, измученных официальным террором. Это было новое поколение воинов против режима консерваторов, определенным образом отождествляемых с остатками от Тысячедневной войны, которые поддерживали совсем не подпольные отношения с законными руководителями либеральной партии.
На всех уровнях в стране распространился новый мифический образ, и среди тех, кто за, и среди тех, кто против, — образ Гуадалупе Сальседо. Возможно, поэтому через семь лет после его сдачи он был изрешечен пулями полицией где-то в Боготе, в месте, которое никогда не указывалось, как не были и установлены точные сведения об обстоятельствах его гибели.
Официальная дата — это 6 июня 1977 года, и тело было похоронено во время торжественной церемонии в нумерованном склепе центрального кладбища Боготы в присутствии известных политиков. Гуадалупе Сальседо из своих военных казарм поддерживал с руководителями либерализма в опале отношения не только политические, но и общественные.
Тем не менее есть по крайней мере восемь различных версий его смерти, и хватает неверующих того времени и этого, которые все еще спрашивают, был ли труп его, и на самом ли деле он находится в склепе.
В таком душевном расположении я предпринял вторую деловую поездку в провинцию, после того как утвердил с Вильегасом, что все в порядке. Как и в предыдущие разы, я сделал очень быстрые продажи в Вальедупаре клиентам, уговоренным заранее. Я съездил с Рафаэлем Эскалоной и Пончо Котесом в Вильянуэву, Ла Пас, Патильял и Манауре де ла Сьерра, чтобы навестить ветеринаров и агрономов. Некоторые говорили с покупателями о моей предыдущей поездке, и меня ждали со специальными заказами. Любой час был хорош, чтобы устроить праздник с теми же самыми клиентами й их веселыми кумовьями, и мы встречали рассвет, распевая под аккордеоны, не прерывая ни обязательств, ни оплаты срочных кредитов, потому что повседневная жизнь продолжала свой привычный ритм в шуме гульбища. В Вильянуэве мы были вместе с аккордеонистом и двумя наборщиками, которые, несомненно, были внуками одного, которого мы слышали детьми в Аракатаке. Таким образом, то, что было детским пристрастием, раскрылось в той поездке как вдохновенное занятие, которое неизбежно меня сопровождает и по сей день.
В этот раз я узнал Манауре в сердце горных хребтов, красивый и спокойный городок, знаменательный для семьи, потому что это именно туда привезли маму, когда она была девочкой, чтобы обуздать жар от перемежающейся малярии, который стойко сопротивлялся разного рода зельям. Сколько я слышал о Манауре, о ее майских днях и лечебных голоданиях, которые, когда я там был в первый раз, показались мне знакомыми, словно я их узнал в предыдущей жизни. Мы пили холодное пиво в единственной таверне городка, когда к нашему столу подошел мужчина, который казался деревом, в высоких гетрах и с револьвером за поясом. Рафаэль Эскалона нас представил, и он задержал мою руку в своей руке, глядя мне в глаза.
— У тебя есть что-то общее с полковником Николасом Маркесом? — спросил он.
— Я его внук, — ответил я.
— Значит, твой дедушка убил моего дедушку.
То есть это был внук Медардо Пачеко, человека, которого мой дедушка убил в открытой схватке. Он мне не дал времени испугаться, потому что сказал это очень теплым образом, по-родственному. Мы развлекались с ним три дня и три ночи в его грузовике с двойным дном, пили горячий бренди и ели санкочо из козленка в память о наших покойных дедушках. В действительности, его звали Хосе Пруденсио Агилар, и он был контрабандистом по профессии, праву и доброму сердцу. В его честь, чтобы не быть меньше, я дал имя сопернику, которого Хосе Аркадио Буэндия убил копьем на арене для петушиных боев в романе «Сто лет одиночества».
Плохо, что в конце этой ностальгической поездки не пришли еще проданные книги, без которых я не мог забрать мой аванс. И я остался без единого сентимо, и счетчик гостиницы шел быстрее, чем мои праздничные ночи. Виктор Коэн начал терять то нестойкое терпение, которое у него осталось по причине ложных слухов, что деньги на оплату своего долга я проматывал на посредственных музыкантов и никудышных проституток. Единственное, что мне вернуло умиротворение, была неразделенная любовь к «Праву на рождение», теленовелле Феликса Б. Кенье, чья широкая популярность оживила мои старые иллюзии о слезливой литературе. Неожиданное чтение «Старика и моря» Хемингуэя, который внезапно пришел в журнал «Лайф» на испанском языке, в конце концов остановило меня и привело к душевному упадку.
В той же самой почте пришел и груз с книгами, которые я должен был вручить хозяевам, чтобы собрать мои авансы. Все платили аккуратно, но я должен был в отеле в два раза больше, чем заработал, и Вильегас меня предупредил, что у меня не будет ни гвоздя раньше, чем через три недели. Тогда я поговорил серьезно с Виктором Коэном, и он принял расписку с поручителем. Так как Эскалоны и его компании не было под рукой, друг, случившийся как нельзя кстати, оказал мне помощь безо всяких обязательств, только потому, что ему понравился мой рассказ, напечатанный в «Кронике». Тем не менее в час истины я не смог заплатить никому.
Расписка вернулась исторической ценностью годы спустя, когда Виктор Коэн показывал ее своим друзьям и посетителям не как обвинительный документ, а как памятный трофей. В последний раз я его видел, когда ему было почти сто лет, и он был высохшим, как колос, прозорливым и все с тем же чувством юмора. При крещении одного из сыновей моей кумы Консуэло Араухоногэры, чьим крестным отцом он был, я снова увидел неоплаченный долг почти пятьдесят лет спустя. Виктор Коэн его показывал всем, кто хотел его видеть, как всегда с юмором и как проявление дружбы. Меня удивила опрятность документа, написанного им, и готовность платить, которая ощущалась в моей бесстыдной подписи. Виктор отпраздновал это тем же вечером, танцуя народное колумбийское пасео под аккордеон с колониальной элегантностью, как никто его не танцевал со времен Франсиско эль Омбре. В конце многие друзья благодарили меня, что я не оплатил вовремя расписку, которая положила начало той бесценной ночи.
Соблазнительное волшебство доктора Вильегаса имело воздействие, но не с книгами. Невозможно забыть царственное мастерство, с которым он справлялся с кредиторами, и счастье, с которым они принимали его доводы, чтобы не платить вовремя. Самая искушающая из его тем в то время была связана с романом писательницы из Барранкильи Ольги Сальседо из Медины «Дороги закрылись», который произвел шум больше общественный, чем литературный, но с немногочисленными прецедентами на местах. Вдохновленный успехом «Права на рождение», за которым я следил с растущим вниманием в течение всего месяца, я подумал, что мы наблюдали народное явление, которое мы, писатели, не могли игнорировать. Даже не упомянув о невыплаченном долге, я это объяснил Вильегасу после моего возвращения из Вальедупара, и он предложил мне написать переложение с немалым умыслом увеличить обширную аудиторию, уже очарованную радиотрагедией Феликса Б. Кенье.
Я сделал адаптацию для радиопередачи в уединении в течение двух недель, которые мне показались намного более показательными, чем я ожидал, из-за необычности напряжения и событий, и быстротечного времени, это не было похоже на написанное ранее. С моим отсутствием опыта в диалогах, что и по сей день остается не самой моей сильной стороной, испытание было ценно, и я был благодарен ему больше за практику, чем за заработок. Тем не менее у меня не было жалоб и на оплату, потому что Вильегас мне заплатил половину вперед наличными деньгами и обязался отменить мой предыдущий долг с первыми поступлениями от радионовеллы.