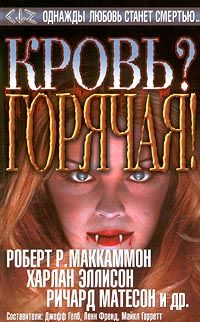Всё, что у меня есть - Марстейн Труде
— Вы не захватите Гейра? — спросила Элиза.
— Нет, мне кажется, это не очень уместно. А ты думаешь, ему тоже нужно приехать?
— Нет-нет, тебе виднее, — ответила Элиза. — Но у них с Яном Улавом ведь были неплохие отношения.
Я пообещала об этом подумать.
— Знаешь, а ведь был тревожный звоночек, — сказала Элиза. — Когда мы ездили на Гран-Канарию в последний раз. Мы сидели у бассейна, Ян Улав собрался принести себе пива и вдруг почувствовал резкую слабость. Он побледнел, пожаловался, что занемела рука. Но уже через пять минут он сидел под зонтиком с открытой бутылкой пива как ни в чем не бывало. Сондре стал расспрашивать его о какой-то заправке для гамбургеров, которую он предлагал Яну Улаву купить, и я подумала: как хорошо, что он заставил нас всех переключить внимание на что-то другое. На следующий день Ян Улав пошел к врачу, и выяснилось, что у него был микроинсульт, но после этого он чувствовал себя хорошо.
Ларс уехал в командировку больше чем на неделю и вернется домой не раньше вечера пятницы. Он может звонить, но это сложно из-за разницы во времени, да и говорить по телефону не особенно удобно. Мне было тоскливо без него в эти дни, а после того, как я узнала о смерти Яна Улава, стало совсем грустно. Когда я говорила с Кристин, у меня появилось слабое желание поделиться с ней, но моя тоска была такой хрупкой, что я решила просто сберечь ее в своей душе, пока она не окрепнет, если она вообще окрепнет. Кстати, на предложение Кристин приехать Элиза согласилась, Кристин умеет настоять на своем.
Я гашу сигарету и поднимаюсь, смотрю вниз на заснеженные улицы, припаркованные между сугробов машины, дверцы автомобилей хлопают, кто-то заводит двигатель. Машина с прицепом остановилась на другой стороне дороги, заехав двумя колесами на тротуар. Какая-то женщина стоит и разглядывает дом.
Когда я иду по коридору к учительской, меня окликает Тале. Волосы ее обесцвечены до такой степени, что кажутся седыми, с серебристым отливом, она зачесывает их назад и стягивает резинкой на макушке. Блеск на губах. Рядом с ней в розовом хиджабе, длинном черном свитере и серых спортивных брюках стоит Хадия. Полгода назад она пережила любовную драму, это выбило ее из колеи, и теперь она наверстывает упущенное.
— Мне так хочется написать сочинение по «Истории скотства» Йенса Бьёрнебу, — говорит Тале. — Или вы считаете, эта жуть не для слабонервных и я слечу с катушек, углубившись в нее?
Я качаю головой.
— Нет, с ума ты точно не сойдешь.
— Я остановилась на Вигдис Йорт, — говорит Хадия. — Если вы не считаете, что это глупо или слишком сложно.
— Вигдис Йорт — прекрасный выбор, — соглашаюсь я. — Но давай поговорим об этом в понедельник? У меня сейчас встреча, а завтра меня не будет, я уезжаю на похороны во Фредрикстад.
— Ой, тяжко?
Какие у них обеих большие глаза. Какие они изобретательные, чуткие, уверенные в себе, наивные и умные.
Я улыбаюсь в ответ.
— Немного грустно, но не слишком.
Хадия влюбилась в парня-немусульманина и поругалась со своим отцом, но через несколько недель молодой человек ее бросил. Мир Хадии в одночасье рухнул, жизнь казалась беспросветной, как это бывает в таком возрасте.
— Я безумно его люблю, — со слезами говорила она мне в учительской. — А папа смотрит на меня с таким лицом! Не могу ему сказать, что все уже кончено, не хочу давать ему повод для радости.
Она ударила кулаком по столу и громко всхлипнула.
— Я обещаю тебе, что все пройдет, — сказала я. — Это не значит, что я не понимаю, как тебе сейчас ужасно, но дальше будет легче.
Это был Феликс из «С»-класса, очень неприятный парень. И все напрасно! Чувства, восстание против отца. Хотя, может, и нет. Надеюсь, этот опыт пригодится Хадии, когда придет время новых дерзких влюбленностей, а ее отношения с отцом, насколько я понимаю, не пострадали.
На перекрестке Майорстюен я встречаюсь с Толлефом, он выгуливает своего боксера по кличке Брутус, у собаки хлопья слюны на нижней челюсти. Дороги скованы толстым слоем льда. У Толлефа только что вышла книга о торговле белыми рабами в восемнадцатом веке, и он хочет подарить мне экземпляр. На внутренней стороне обложки надпись: «Дорогой Монике после сорока лет дружбы — очень важной дружбы. Обнимаю, Толлеф». И прежде, чем я начинаю понимать смысл этих слов, комок подкатывает к горлу, а глаза наполняются слезами. Толлеф обнимает меня и прижимает к себе, он стал зрелым и надежным мужчиной, да он всегда именно таким и был.
На ветки деревьев налип снег, чувствуется мороз и колючий ветер, мы заходим во Фрогнер-парк.
— Кайса ушла с головой в работу, — рассказывает Толлеф. — После того как дети уехали, я думал, мы будем проводить больше времени вместе, но она полностью поглощена своими делами.
Толлеф поворачивается и смотрит на меня. Выражение его лица противоречит тону, с которым он это произносит: он не жалуется, он горд, доволен, он сияет. И я вижу перед собой Кайсу такой, какой я ее видела последний раз — в очках, сидящих на горбинке носа, стройную, можно даже сказать, худощавую, почти совсем седую, в одном из этих ее вечных бесформенных балахонов, но по-своему привлекательную и сексуальную.
Толлеф спускает Брутуса с поводка, тот бежит, загребая лапами по снегу, опустив морду вниз. Трое собачников одновременно присели на корточки и убирают за своими питомцами. Маленький мопс вертится волчком, зажав в зубах светло-зеленый мячик. Ох, это чувство тоски и зависти, но главное — огромная радость за Толлефа: ему-то есть с кем состариться. Это так хорошо, так приятно знать.
— Я так рад, что наконец-то пришла нормальная зима, — говорит Толлеф. — В прошлом году я ни разу не катался на лыжах. Как у тебя на работе? Как тебе кажется, правильно ты поступила?
— Это лучшее, что я могла сделать, — говорю я. — Теперь я гораздо больше подхожу на роль учителя, чем двадцать пять лет назад. Я меньше зациклена на себе. Во мне меньше горечи из-за нереализованных амбиций.
Толлеф смеется. Глаз почти не видно — то ли они уменьшились, то ли их просто труднее разглядеть за морщинами. У него почти такие же густые волосы, как в молодости, золотистые, но с проблесками седины.
Из сумки на плече он достает изгрызенную летающую тарелку и подбрасывает ее, Брутус зависает в прыжке.
— Я уже дважды ходил на лыжах, — говорит Толлеф. — Брал отгулы. В Эстмарке в будние дни так пусто и прекрасно. Но Моника…
Он замечает, что я плачу.
Толлеф разворачивает меня к себе, обнимает и гладит по спине. Брутус кладет к ногам Толлефа летающую тарелку, закрывает пасть и замирает.
— У Элизы в понедельник умер муж, — плачу я.
— Ян Улав.
Порыв ветра осыпает на нас с деревьев снег. Независимо от того, что я чувствую, рассказывать особо нечего. Толлеф спрашивает, как теперь Элиза, я говорю, что, по-моему, нормально. Ответ, который напрашивается сам собой.
Сколько же во мне накопилось чувств. Их так много, что я не знаю, что мне делать. Я смотрю на падающий снег, бесконечную, беспросветную пелену снега.
— Он ведь действительно был замечательным мужем и отцом, правда? — помолчав, спрашивает Толлеф.
Да, это правда.
Отец Толлефа пил и поколачивал жену, он умер, когда ему едва исполнилось пятьдесят. От первой встречи с матерью Толлефа мне запомнилась колея в гравии на подъезде к их дому в Мерокере. Кто-то пытался вырулить из заноса — младший брат Толлефа. Мать была худенькой и улыбчивой, руки ее дрожали, она все время курила.
В Толлефе есть что-то жизнеутверждающее. Однажды, когда мы будем вместе пить вино, я ему подробно об этом расскажу.
— Сколько вашей собаке? — спрашивает какая-то дама у Толлефа. — Это сука?
— Нет, кобель, — отвечает Толлеф, — ему восемь.
Мне хочется нравиться Толлефу, меня больше занимает то, как я выгляжу как человек в его глазах, чем в глазах других. Или даже больше, чем нравиться. Я хочу, чтобы он не осуждал меня и не воспринимал скептически решения, которые я принимаю. О самой себе я рассказываю Толлефу скромно и немногословно, я стараюсь говорить о других с большей симпатией. Ведь существует множество способов разочаровать других, и хуже всего — разочаровать Толлефа.