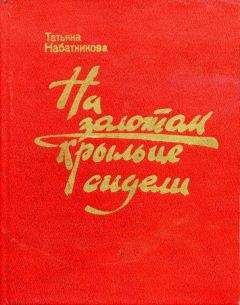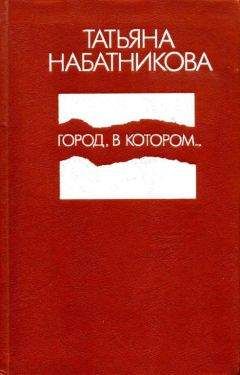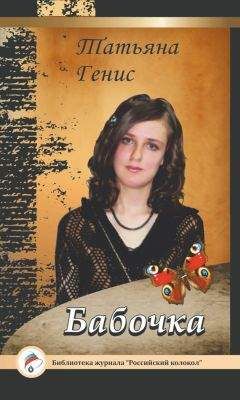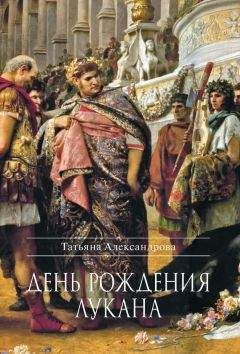День рождения кошки - Набатникова Татьяна Алексеевна
Говори, Мария!
Иногда лежу без сна, одна.
Э-э-эй! — беззвучное. Оно возносится, растет, множась под куполом ночи. Раскатывается, истончается — тает… Тщетный мой неутолимый зов.
Один был такой эпизод в юности. С выпускного вечера мы тайно исчезли. Он вывел мотоцикл, я в белом платье села в коляску. Ехали долго, отдаляясь понадежнее от села, от людей, от огней, от малейшего звука. С тех пор как мы оставили праздничный зал и канули в ночь, не было произнесено ни слова. Язык отключился, ему не было тут задействия.
Мы ехали, я дрожала, не чувствуя в себе необходимой отваги. Потом остановились. Стало тихо.
Тишина собралась здесь вся, сколько ни есть ее. Мы остались сидеть, кончиком пальца не шевельнуть: тишина, погруженные вместе с лучом нашей фары, как в батискафе, на дно целого космоса. То, что завоевано светом — кусочек пространства, вырезанный из огромной тьмы, — то только наше. Мы, как улитки, вжались в себя, затаились, взгляды держа в освещенном угодье, наружу во тьму их наставить боимся.
Я знала, свергать это иго безмолвия — мне. Встать из коляски, ступить в ночь, в степь. Он не имел права, не смел побуждать меня. На то могла быть одна только добрая воля — моя.
Я медлю, робею.
Он не гасил фару — я знаю почему: чтоб разграничить свет и тьму. Чтоб оставить мне темноту для укрытия. Темнота выручит. И это все, что он мог дать мне в помощь. Остальное должна была сделать я. (Ибо так справедливее и честнее.)
Но меня не хватило. Я приросла к коляске, он оставался в седле, мы были поодиночке. Надо было встать, чтобы очутиться вместе. Страшной священной жертвы требует однажды любовь. Как птица-Ногай, перенося Ивана через пропасть, время от времени поворачивала голову за подкреплением: кусок мяса, глоток питья; а мясо в бочке у Ивана все вышло, а птица-Ногай оборачивает голову и настойчиво разевает алчущий свой, жаждущий клюв. Вынай, Иван, нож, отсекай мясо от своего тела. Иначе вы не преодолеете пропасть.
Какое уж там наслаждение.
Я сидела, презренное ничтожество, трусливо вцепившись в коляску. Он понял, вздохнул, вшлепнул ключ зажигания. Вернулся мир — успокоительно привычный, такой нетребовательный к тебе мир — гул мотора, ветер, огни жилья.
На другой день мы уехали в разные края, и больше нам не случилось свидеться.
Я искала его потом, куда-то писала, но следы потерялись. Позднее, когда у меня появилось достаточно свободы и денег ездить по его розыску, прошло уже столько лет, изменивших мое лицо, что предстать перед моим милым я бы уже не посмела: оскорбить его память обо мне. Да и, наверное, семья, счастье (что, кроме счастья, могло ожидать семью моего милого?).
Счастье, то, чего не умела делать я.
Надо, чтоб хоть один из двоих знал рецепт. Второй бы у него послушно выучился. Но мы оба не знали с мужем моим.
Дядя Коля Бутько у нас тут разработал теорию гравитации. Прежняя его не устраивала. По его выходит так, что тела не притягиваются, а наоборот отторгаются. Ибо каждое источает силу и теснит ею другие тела. Те, другие, оказывают сопротивление. У Земли своя сила сопротивления давлению Солнца и звезд, а мы, люди, между двумя этими борющимися силами в оптимальных условиях. Хотя не везде. В Бермудском треугольнике, он считает, Земля имеет слабину, и там поэтому провал. А в Апеннинах есть залежи тяжелых магнитных руд, которые как раз имеют большую силу сопротивления, — так предметы оттуда попросту выталкивает вверх, как пробку из воды. И вес предметов на поверхности Земли должен зависеть от времени суток: днем, от прибавления давления Солнца, он больше, чем ночью. («Дядь Коль, а ты проверял?» — «Нет еще, руки не дошли».)
Но самое для меня привлекательное в теории дяди Коли Бутько — это вот что, следите: тела, считаясь с силой друг друга, находят терпимое взаимное положение, установив между собой (почти дипломатически) «квадрат расстояния», как выражается дядя Коля. Вот этот «квадрат расстояния» мне дорог. Он и в отношении людей работает. Тот терпимый квадрат расстояния — равновесие взаимных сил, причиняющих одна другой наименьший урон. Я его со своим богоданным мужем не установила. Теперь он покойник уже.
Хаос броуновского движения дядя Коля объясняет тем, что такому множеству частиц не удается найти терпимый для всех «квадрат». Вот и толкаются бесконечно.
Ох, гляжу я на людей — то же броуновское движение.
В теории дяди Коли есть еще много ценного — например, он объясняет приливы и отливы, берется обосновать орбиту Меркурия, а также предлагает попутно вечный двигатель — самокатное колесо, которое будет катиться собственным весом. Пробное его колесо, правда, едет только под горку, но это он объясняет ущербом ручной технологии, а выхлопотать для своего колеса заводскую технологию ему не удается — куда ни напишет, все пренебрегают.
Дядя Коля все ждет, что приедут к нам на уборку какие-нибудь физики и он их прижмет к стенке: как же так по-вашему получается с временами года: если летом Земля приближается к Солнцу, так и лето обязано наступить по всей Земле скрозь, а оно ведь наступает по очереди: то в южном полушарии, то в северном. Неужели наклон земной оси может покрыть разницу орбитального расстояния между Землей и Солнцем? И мучается дядя Коля разными вопросами, а физики к нам на уборку не едут, все больше гуманитарии вроде вас. Ехать дяде Коле самому за физиками недосуг. Я за милым моим не поехала ради всей моей жизни, а уж любопытство ума можно и перетерпеть.
Если бы я поехала, наскребла решимости (на все плюнуть и наугад, на авось поехать на поиски), я стала бы сильнее ровно на этот поступок (и на всякий последующий, если бы они последовали) — как мышцы крепнут от тренировок.
Или начать еще раньше: если бы я вышла из коляски…
Нет, еще раньше — где-нибудь в детстве, когда я стояла и бездействовала вместо того, чтоб нестись с криком «ура!» на штурм и преодоление…
Может, все наши беды растут из самого детства. Взять хоть моего покойного, например. Ну посудите. Он родился — мальчик, радость-то, Ромой назвали, ожидалось впереди только лучшее. Но не сбылось. Отца посадили — это у многих тогда. Мать, оставшись без «квадрата», побалансировала и сорвалась. Нет, не в том смысле, в каком вы готовитесь это понять. Счастье открывается человеку довольно многообразно, и зло тоже. Ее жизнь стала держаться (как ЛЭП на опорах — от одной к другой) на срывах. Такая вот обратная гравитация. Она душевно питалась срывами и стала предпочитать эту пищу любой другой, как эскимос предпочитает подтухнувшее мясо. Самой доступной добычей был Ромочка, она стерегла его, как охотник: вот сейчас он не так ступит — и она получит свой срыв. Взвив голос в ту высь, под самый потолок, где интонации уже нет места (расплющивается всплошняк), на одной ноте: «Так твою и так, и…» — дальше вслух нельзя — с отрадой освобождения, избавления от какого-то нестерпимого напора изнутри. Вот. А потом опять скучный перегон ЛЭП, провисание проводов, прозябание жизни — до следующей возможности осуществиться.
Ромочка знал уже, что это «нельзя». Он глядит, трехлетний, парализованно на свою мать, и в позвоночник его навечно прорастает корень всей его будущей жизни: то, что «нельзя», — оказывается, МОЖНО. Более того, это превозможение «нельзя» сулит неслыханную радость, какую другим способом и не добудешь. Это сродни ядерной энергии: простое вещество, не горючее — а в атомах его замурована страшная сила, которую если выпростать — никакой нефти не снилась, никакому тротилу. То же с моей, царство ей небесное, свекровью. В ней не было ни талантов, ни умений, ни ума — ничего такого, что горело бы и светилось. Но из серого праха, из которого составлено было ее существо, извлекалась запретная сила преодоленного «нельзя» — и получался этот жуткий, бесчестный атомный гриб, под которым возрос мой муж. Покойник мой. И он потом всю жизнь ничем не мог утолиться. Ни на чем остановиться не мог. И я не умела спасти его. Ему только падать сладко было. Но чтобы падать, нужен запас высоты, а у него с рождения не было этого запаса. Ему размазываться оставалось по плоскости. Так что дочку свою я к маме отправила вырастать. Он под конец полусумасшедший был, и я боялась его. Он должен был меня убить. Откуда-то ведь надо черпать энергию событий — питание духу. А ссор и драк я ему не подбрасывала — поленьями в печь. Он мерз. Его знобило — психологически, понимаете? Проснусь ночью — он лежит на своей кровати, не спит — положил подбородок на руку и тяжко, каменно, угрюмо глядит на меня, глядит… Другая рука свесилась к полу. От этой глыбы его взгляда я и просыпалась.