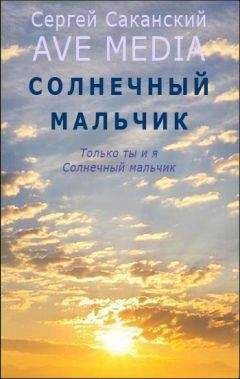Бруклинские ведьмы - Доусон Мэдди
Когда я возвращаюсь в помещение, Ноа идет навстречу, протягивая ко мне руки, и мы наконец танцуем вместе. Я кладу голову ему на плечо и шепчу прямо как настоящая жена:
— Ну как, тебе полегче? Ты поел чего-нибудь? — Возможно, ему чертовски обидно это слышать.
— Да, — отвечает он слабым голосом. — Да, мне легче. Я поел белковой пищи.
Черт возьми! Моя заботливость просто зашкаливает.
— Хорошо. Вы с Уипплом так много пели! Должно быть, это было здорово, да? — Не знаю, откуда во мне взялась храбрость, чтобы произнести эти слова. Возможно, я почерпнула ее из алкоголя, или из того, что сказала мне Бликс, или дело в том, что я чувствую себя оторванной от реальности, но я задаю страшный вопрос: — Как думаешь, что дальше?
— Не знаю. Медовый месяц?
— О’кей, — говорю я, — а как насчет сегодняшней ночи?
— Что ты имеешь в виду? Сегодня мы поедем в отель, у нас будет отличный секс, заснем мы поздно. Как и полагается молодоженам.
Мне хочется знать кое-что еще. Например, собирается ли он быть моим мужем? Действительно ли я теперь его жена? Применимы ли к нам эти слова? Ноа обнимает меня, и мы медленно танцуем под другую песню, а потом загорается свет, но я не вижу света в глазах Ноа. Воздух вокруг него мутно-бежевый, я никогда раньше этого не замечала.
Так что, думаю, в качестве первого своего чуда я попытаюсь заставить его опять загореться.
5
БЛИКС
Идет следующая неделя после свадьбы, и я уже вернулась домой. Опухоль будит меня до рассвета. Она пульсирует прямо под кожей, как нечто живое, обладающее собственными силами.
«Привет, любимая, — говорит она, — чем сегодня займемся?»
— Дорогая, — отвечаю я ей, — я надеялась, что сегодня утром нам удастся еще немного поспать. Может, ты не будешь сильно возражать, если мы так и сделаем, а попозже поговорим, о чем тебе угодно.
Опухоль обычно не реагирует на увещевания такого рода. Ей ни к чему. Она знает, что я в ее власти. Я подружилась с ней, потому что не верю в то, что болезнь — это битва, не нравится мне такая метафора. В некрологах вечно пишут что-то вроде: «Он пять лет боролся с раком», или того хуже: «Он проиграл битву с раком». Не думаю, что раку нравится такой образ мысли. И как бы там ни было, я всю жизнь по-хорошему обходилась с неприятностями и заметила, что при таком обращении проблемы просто сворачиваются в клубок, как котята, уютно устраиваются у ног и засыпают. Потом смотришь вниз, а они куда-то исчезли. И остается только ласково попрощаться с ними и вернуться к тому, что изначально собиралась делать.
В интересах дружбы я дала своей опухоли имя: Кассандра. Так звали ту, чьим пророчествам никто не верил.
Я переворачиваюсь в постели и слышу, как тихо храпит рядом Хаунди, он совсем седой, и его красивое лицо обращено ко мне. Я лежу в предрассветном полумраке, смотрю, как он вдыхает и выдыхает, и чувствую магию пробуждающегося города. Проходит много времени, и солнце встает по-настоящему, потом проходит еще сколько-то времени, и из-за угла выкатывает автобус, тот, который по расписанию прибывает в 6:43 и на своей обычной сумасшедшей скорости попадает колесом в выбоину, отчего его металлические части, как всегда, жалобно дребезжат. Дрожат оконные стекла. Где-то, я слышу, включается сирена.
Раннее летнее утро в Бруклине. На окна уже наваливается жара. Я закрываю глаза и потягиваюсь. Кассандра, удовлетворенная моим пробуждением, возвращается к тому, чем она занималась до тех пор, пока ей не заблагорассудилось меня разбудить. Иногда она тихая и усталая, как само время, а иногда ведет себя как малолетний гаденыш, которого хлебом не корми, дай помучить что-нибудь живое.
Я кладу на нее руку и пою про себя ей песенку. Считайте меня сумасшедшей, но, назвав ее Кассандрой, я вдобавок начала ее наряжать. В те дни, когда она свирепая и горячая, я представляю ее в каске, а в другие дни — в такие, как, возможно, сегодня — я вижу ее в кружевном платье и приглашаю на чай. Я предлагаю ей вообразить себя с самой изящной и красивой из всех моих фарфоровых чашек, с той, которую я обычно вешаю на крючок над плитой.
— Я тебя не брошу, — обещаю я Кассандре. — Я знаю, ты явилась с какой-то целью, хотя будь я проклята, если понимаю, что это за цель.
На прошлой неделе, когда я вернулась со свадьбы почти сгибаясь пополам от боли, я как следует вознаградила себя за то, что это пережила. И еще отпраздновала встречу с Марни. Я рассказала Хаунди и Лоле, что нашла девушку, встречи с которой ждала всю жизнь, девушку, которую, возможно, знала на протяжении многих предыдущих жизней и которая была моей духовной дочерью. А потом я выкрасила холодильник в ярко-бирюзовый цвет. Я так гордилась тем, что никто из членов семьи не догадался о моей близкой смерти, что сделала это в качестве небольшого поощрения самой себе.
Хаунди — мой дорогой Хаунди, адепт семейных ценностей — считает, что я должна просто взять и рассказать родственникам об опухоли.
— Почему нет? — спрашивает он. — Разве они не заслуживают того, чтобы знать? Может, им захочется быть с тобой поласковее.
Ха! Члены моей семьи не захотели бы быть со мной ласковыми. Они захотели бы запереть меня в какой-нибудь больнице, где на Кассандру с иглами и ножами напали бы доктора с их особой, снисходительной манерой обращения с пациентами, которые начали бы разговаривать со мной так громко, как будто наличие Кассандры могло повлиять на мой слух.
Нет уж, спасибо. Я сходила к врачу и узнала свой диагноз, который не буду описывать тут медицинскими терминами, слишком много ему чести, к тому же, произнесенные вслух, эти слова заставляют меня чувствовать себя смертельно больной и неизлечимой, меня такое не устраивает. Скажу только вот что: я встала с диагностического стола, оделась, сказала «спасибо», порвала лист бумаги под названием «план лечения», который мне дали, и ушла. Больше я туда не вернусь.
Если Кассандра покинет мое тело — а она может, такое все еще не исключается, — это произойдет по ее собственному решению и будет означать, что наш совместный труд завершен. Умирать я не хочу, но и не боюсь. Я не стану прибегать к химиотерапии или пичкать свое тело ядами. Я не буду страдать. Вместо этого я пила тонизирующие напитки и пела мантры; консультировалась по Сети с шаманом из африканской деревни; зарывала талисманы, сажала семена и занималась йогой в полночь под полной луной. Я практиковала танцы, первичный крик, громкий смех, массаж и иглоукалывание. И рэйки [4].
Несмотря на всё это, Кассандра процветает. И знаете, что это значит? Это значит, что так и должно быть.
Так что я умру. Эта самая естественная в мире вещь. Жизнь конечна. Я нормально к этому отношусь. На самом деле, это просто смена адреса. Это не должно быть ужасно.
Я вздыхаю, пинком отбрасываю простыни, потому что мне вдруг становится жарко, а потом закрываю глаза и настраиваюсь на разговор, который завели на подоконнике голуби. Они все время издают такие звуки, будто вот-вот откроют мне истину.
Через некоторое время я встаю и иду на свою, как выражается Хаунди, долбанутую кухню, чтобы заварить чай. Эти бруклинские кирпичные дома ужасно забавные. В моем — паркетный пол, который, возможно, когда-то был великолепен, но теперь перекосился и идет под уклон к внешней стене. Этот пол приобрел индивидуальность, он весь в щербинках и царапинах, потому что по нему целый век ходили и босиком, и в обуви, заливали его водой и чем похуже, и высокий плиточный потолок, в пожелтевший центр которого вмонтирован яркий флуоресцентный светильник в форме кольца, — я никогда его не включаю, потому что он слишком безжалостный. В его свете все кажется уродливым, и поэтому вместо него я зажигаю расставленные тут и там лампы. Их теплый желтоватый свет придает всему мягкость.
Хаунди говорит, что мы могли бы выровнять пол и, может, поменять центральную лестницу, починить крышу. Он из тех ребят, которые всегда что-то делают, а не сидят и смотрят, как ржавеет металл. В конце концов пришлось сказать ему, чтобы он притормозил со своими начинаниями. Мне хочется просто наслаждаться тем, как солнце пробивается в щели у окон. Я устала от слишком серьезных усилий.