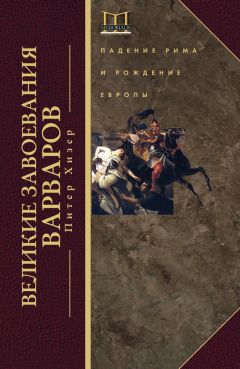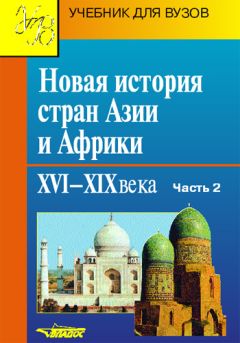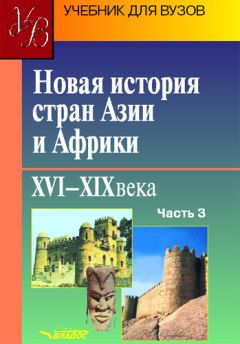Филипп Майер - Сын
— Она теперь в лучшем мире.
Он пожал плечами:
— Она теперь нигде.
— Но есть еще папа, — напомнил я.
Он лишь фыркнул в ответ.
— Как только папаша узнает, что случилось, он первым делом рванет к своей любовнице в Остине.
— Это подло. Даже для тебя.
— Люди напрасно говорить не станут, Илай. Пора бы тебе и это знать.
Индейцы покосились в нашу сторону. Я надеялся, что они запретят нам болтать, но им и дела не было.
— Мама знала, что сможет тебя спасти, — продолжал он. — Лиззи и меня… вряд ли. Но ты — совсем другое дело.
Я сделал вид, что не понимаю его, и огляделся вокруг. Стены каньона возвышались на несколько сотен футов, из трещин торчали кусты барбариса и соцветия медвежьей травы. Узловатый старый кедр вцепился в склон, он походил на дымовую трубу, в ветвях скрывалось орлиное гнездо. Несколько высоких кипарисов равнодушно стояли над рекой, им и полтысячи лет нипочем.
Солнце коснулось верхнего края каньона, и тут раздались скорбные вопли и пение. Потом грянул выстрел и погребальное шествие двинулось обратно к реке. Вернувшись, индейцы принялись колотить и пинать нас, пока брат опять не обгадился.
— Я не выдержу, — простонал он.
— Держись.
— Не могу.
Некоторые из индейцев считали, что нас надо отвести к могиле убитого воина и пристрелить там, вместе с его лошадью, но главный, тот, кто вытащил меня из дома, был против. Набитеку текванивапи Тошавей[16], говорили они. Братец уже начинал понимать отдельные слова языка команчей; Тошавей звали их вождя. Его уговаривали, предлагали, требовали, но Тошавей не уступал. Он видел, что я наблюдаю за ним, но обращал на это внимания не больше, чем на собаку.
Брат философски закатил глаза, и я сразу занервничал.
— Знаешь, — проговорил он, — я все время надеялся. Надеялся, что как только взойдет солнце и они разглядят нас получше, то сразу поймут, что совершили чудовищную ошибку, что мы такие же люди, как они, — или, по крайней мере, поймут, что мы тоже люди, но сейчас надеюсь, что это вовсе не так.
Я молчал.
— До меня дошло, что именно сходство, которое должно бы нас спасти, нас и погубит. Мы, конечно, не властны над судьбой, но и они, в конце концов, тоже, и именно поэтому они нас убьют. Чтобы хоть на время спастись от собственных ужасающих мыслей.
— Прекрати, — взмолился я. — Перестань болтать.
— Да им все равно, — возразил он. — Им безразлично, что мы там лопочем.
Я понимал, что он прав, но тут индейцы прекратили свой спор и те, кто настаивал на нашем убийстве, подошли и вновь начали нас избивать.
Когда они закончили, брат лежал в луже между камней, под странным углом повернув голову и глядя прямо в небеса. Я захлебывался кровью, меня рвало. Стены каньона покачивались, в глазах все плыло. Хорошо бы, чтобы они нас прикончили. Я заметил волка, выглядывавшего из-за края обрыва, но моргнул, и зверь пропал. Я вспомнил того белого волка, что подстрелил накануне, это был дурной знак, потом вспомнил про мать и сестру и подумал, добрались ли до них уже дикие звери. Я громко завыл, зарыдал и тут же получил очередную затрещину.
Мартин словно похудел фунтов на двадцать; колени, локти, подбородок кровоточили, он весь был в грязи и песке. Индейцы седлали свежих лошадей. Я умирал от голода и, прежде чем меня затолкали на лошадь, успел вдоволь напиться из реки.
— Тебе нужно попить, — сказал я брату.
Он только помотал головой и продолжал лежать, прикрывая ладонями свои причиндалы. Индейцы рывком поставили нас на ноги.
— В следующий раз хотя бы, — настаивал я.
— Я думал, как замечательно, что мне никогда больше не придется подняться. А оказалось, что меня не убили. Плохо.
— Могло быть хуже.
Он только пожал плечами.
Мы мчались все так же стремительно, и даже если индейцы устали, они не подавали виду, как не подавали виду, что, возможно, проголодались. Они были настороже, но спокойны. Время от времени я оглядывался на ремуду, скакавшую следом за нами по каньону. А брат не умолкал ни на минуту.
— Знаешь, я все время смотрел на маму и Лиззи, — все никак не мог он остановиться. — Я все думал, где у человека может быть душа, в сердце или, возможно, в костях, и представлял, что она вылетит, если тело разрезать. Но их же изрезали в куски, а я не заметил, чтобы что-то вылетело наружу. Это точно, я бы не прозевал такое.
Я пытался пропускать все мимо ушей.
Потом он спросил:
— Ты можешь представить белого, даже тысячу белых, так легко и беспечно скачущих по индейским территориям?
— Нет.
— Забавно, все называют их дикарями, варварами, красными дьяволами, но теперь, когда мы рассмотрели их так близко, думаю, все ровно наоборот. Они ведут себя, как боги. В смысле, как древние герои или полубоги, поскольку, как ты продемонстрировал, пускай и не без ущерба для себя, эти индейцы определенно смертны.
— Умоляю, заткнись.
— Заставляет задуматься о проблеме негров, верно?
К полудню мы выбрались из каньона. Впереди расстилалась холмистая прерия, усеянная астрами, примулами, чертополохом и красными маками. Стайка куропаток порхнула в кусты. Прерия тянулась до горизонта; вдали паслись антилопы, олени, даже несколько отбившихся от стада бизонов. Индейцы чуть помедлили, оглядываясь, и мы двинулись дальше.
От солнца прикрыться было нечем, и к полудню от меня пахло уже горелой кожей, я периодически проваливался в забытье. Мы ехали в густой траве, через известняковые овраги, ненадолго скрывались в тени деревьев по берегам ручьев — но ни разу так и не остановились напиться — и вновь оказывались на солнцепеке.
Наконец команчи придержали лошадей, и после короткой перебранки нас с братом отвели к ручью, который мы только что преодолели. Грубо сдернули на землю, привязали спинами друг к другу и бросили в тень. Мальчишка-подросток остался нас караулить.
— Рейнджеры?
— Не похоже, что они сильно встревожены.
Очень странно было разговаривать с братом, не видя его лица.
— Может, это отец с остальными.
— Тогда они были бы позади нас, — заметил брат.
Поразмыслив, я решил, что он прав, и окликнул нашего сторожа, показав взглядом на дикий виноград по берегу ручья.
Он отрицательно качнул головой. Umca аите[17]. И уточнил: итса кета квасепе[18]. Но поскольку я все равно не понял, добавил по-испански: no en sazon[19].
— Он говорит, еще зеленый.
— Это я понял.
Я так проголодался, что мне было безразлично, каков этот виноград на вкус, и я настаивал. Индеец срезал гроздь, швырнул мне на колени и тут же тщательно сполоснул руки в ручье. Ягоды оказались такими горькими, что меня едва не вывернуло. Но хотя бы рот смочить, губы у меня запеклись и зудели.