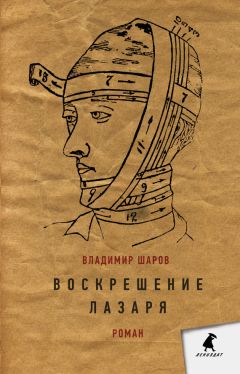Владимир Шаров - Репетиции
Кроме книг, добытых им во время ежегодного полевого сезона, у Суворина в Томске были и свои специальные поставщики, у которых рукописи он покупал. Весной, обычно в мае, перед сборами в новую экспедицию, он большую часть приобретенных за последний год рукописей, обработав и описав, дарил университетской библиотеке, и лишь немногие, наиболее для него интересные или все еще нужные для работы, оставлял у себя. Безвозмездная передача им рукописей, в том числе и купленных, библиотеке, была, наверное, главной причиной, по которой и город, и университетское начальство смотрели на его собирательство вполне доброжелательно, нисколько не препятствовали ему, а часто и охотно помогали. Совместные поездки с Сувориным, то, что он показывал и рассказывал мне, то, как он работал с источниками — 99 процентов моего образования и, хотя, поехав с ним в экспедицию, я в итоге потерял Наташу, думаю, что тогда я, пожалуй, не был неправ.
Про суворинские экспедиции я услышал месяца через полтора после нашего переезда в Томск и сразу решил, что сделаю все, чтобы он взял меня. Сибири я совсем не знал — ни природы, ни людей, а жить здесь мне предстояло долго. С Сувориным я мог увидеть самую глухомань, самую настоящую Сибирь, то, что, собственно говоря, и должно так называться, это было, конечно, весьма заманчиво, но одновременно я узнал, что попасть к нему очень не просто. С ним желала ехать чуть ли не треть курса, народ у нас был способный, несколько человек знали по два-три языка и одновременно хорошо — Сибирь, все вокруг было их, родное, а мне надо было еще не один год вживаться в эту почву, и, выбери меня Суворин, я вряд ли сумел бы быть ему так же полезен, как местные ребята. Я это понимал и тем не менее в середине апреля вместе с другими кандидатами пошел к нему на прием.
Каждый год Суворин брал разное количество людей, и сколько мест — было тайной до последнего дня. Система отбора была вполне демократичная: как и остальные, я был спрошен, почему хочу ехать и вообще, кто я и откуда. Я рассказал, и мы довольно долго говорили про Куйбышевскую область, тоже когда-то окраинную, подобно Сибири и поныне населенную множеством старообрядцев, других сектантов, разговор я поддерживал достаточно умело, но было ясно, что особого впечатления на Суворина не произвел, и уже за чаем, когда он просто расспрашивал меня о Куйбышеве, я упомянул Ильина, что-то еще сказал, он заинтересовался, потребовал подробностей, и мы, будто пойдя по второму кругу, проговорили до полуночи. Наконец я собрался уходить, и тут Суворин вдруг спросил, не могу ли я прямо сейчас вкратце изложить ему учение Ильина. Я сказал, что могу, хотя за полноту и точность не ручаюсь, он дал мне несколько листов бумаги и, чтобы не мешать, пошел в другую комнату звонить по телефону. Конечно, и самого Ильина, и все слышанное от него я помнил хорошо и без труда выбрал и написал для Суворина то, что мне казалось тогда наиболее важным, сведя все в десяток тезисов. Работа не заняла и получаса, Суворин по-прежнему говорил по телефону, говорил, кажется, с женщиной, я не стал его звать, оставил листки на столе и ушел.
Никакого продолжения этот мой визит не имел. Я был уверен, что шансов на экспедицию нет, и собирался на лето в Куйбышев, к Наташе, уже и написал ей, но в мае Суворин неожиданно позвонил мне домой и сказал, что, если я не передумал и по-прежнему хочу ехать, он меня берет, более того, мы едем вдвоем. Отказаться было невозможно, да и глупо, я послал Наташе короткое и вполне хамское письмо, из которого ясно было, что ей я предпочел экспедицию (я всегда требовал от нее абсолютной честности, и мое письмо было производное этой честности). Вдвоем с Сувориным мы ездили по Сибири почти два месяца, за это время сдружились, вообще он оказался в такой жизни человеком легким, открытым, без субординации и дистанции, и после возвращения я теперь как бы официально был избран на доселе вакантную должность ученика и наследника.
Кроме конкретной истории раскола, Суворина очень занимало то, как эволюционирует идея под влиянием внешней жизни, но особенно внутренних мотивов, самый механизм ее изменений. Путь, который прошли старообрядцы за полтора века от неукоснительной защиты всего и вся в старой вере до хлыстовства, а было немало и другого, требовал понимания. Старообрядческих толков и направлений были десятки и сотни, нередко соседние деревни веровали по-разному; такая поразительная изменчивость и главное, что все пошло от одного очень четкого и определенного корня и часто не испытывало почти никакого стороннего влияния, лишь своя собственная внутренняя работа в почти лабораторно стерильных условиях — деревни среди болот и глухой тайги; множественность вер и направлений, мутации, частые, как у любимых генетиками дрозофил — и это при том, что никто не хотел ничего нового, наоборот, цель — донести, сохранить в первоначальной святости, чистоте, и, следовательно, перемены — отнюдь не ради перемен. Они и не видны были тем, кто сам менял, менял чудовищно резко и так быстро, что разрывал, — для подобных наблюдений Сибирь давала, конечно, несравнимый по богатству материал, и схемы преемственности и развития старообрядческих толков, которые проследил и построил Суворин, были, пожалуй, столь же тщательные, как сделанные историками русского летописания.
Специально для собиравшихся ехать с ним в экспедицию Суворин с апреля (хотя и не каждый год) у себя дома устраивал по вторникам коллоквиумы, посвященные истории русской церкви. Шли они следующим образом: Суворин читал короткую, не больше чем на час, лекцию, а потом, после недолгого перерыва, уже за чаем, каждый из нас высказывал свои соображения об услышанном. Продолжалось это обычно до глубокой ночи, мы редко когда сходились на одном, но Суворин и не стремился свести наши взгляды к единому знаменателю, на себя он брал только справки, да если мы настаивали, строго фактические консультации. Долгое время я думал — да он и не скрывал этого, — что ему просто нравилось нас слушать: так не похоже было то, что мы говорили, на привычную университетскую рутину и так похоже на то, что было в его молодости, но позднее понял, что и для себя Суворин извлекал из коллоквиумов немало интересного.
Споря, мы высказывали оригинальные, а подчас и великолепные по своей парадоксальности идеи, азарт и его невмешательство делали все простым и свободным, и он эти находки легко замечал, вычленял, даже если они были случайны и плохо аргументированы, — у него был открытый, без субординации ум, — и нередко потом использовал в своих работах. К сожалению, из-за такой необычной для семинаров формы «вторников», насколько я знаю, ни у кого, и у меня в том числе, не сохранилось никаких записей и конспектов, кажется, их никто никогда и не делал. Это повелось еще с тридцатых годов. Лекции были далеки от традиционной точки зрения, и, попади записи в чужие руки, они, несмотря на все покровительства, могли стоить Суворину головы.