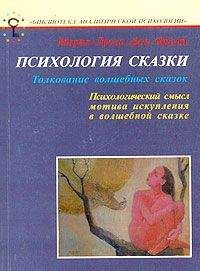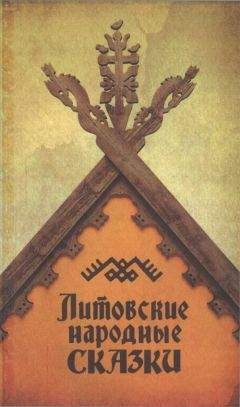Олег Павлов - В безбожных переулках
В углу комнаты слепо тычется щенок, выползает на ковер и ползает по-черепашьи, потому что лапы его, слабые, разъезжаются под пузом. Ползет ко мне, противно попискивает. Но вдруг мне становится его жалко, а душа теплится осознанным счастьем, что то ли спас его, то ли простил. Мама не наказала и даже не отругала, а получил я больше ее любви за то, что оказался так жалок.
Волосы она часто красила, меняя их цвет, и прическу делала - то короче, то длинней. Фигурку ее я не различал, но всегда чувствовал в ее осанке какое-то непринужденное достоинство; маму никогда не видел сутулой или размякшей. Казалось, она не знала чувства усталости, хоть и очень много работала. Но работа не давала ей размякнуть от усталости, делала все тверже да прямей. Тут она была похожа на бабушку Шуру. И я очень любил ее походку. Для нее имело особый смысл то, как она выглядит, будто именно внешний вид и даже походка давали ей свободу и чувство достоинства.
Я никогда в жизни не видел ее лицо злым или чтоб оно было хоть с каким-то недобрым выражением. Все черты лица правильные, и выражение его от этого кажется правильным, спокойным, так что ему всегда доверяешь. Глаза глядят спокойно, ровно, как если б взгляд всегда собран и внимателен из-за какой-то мысли. Она не любит молчать, речь ей так необходима, будто она что-то осмысливает в словах. Порой в том, что она говорит, просто слышно ее настроение, и она говорит, осмысливая это настроение, слушая свой голос, как если бы он звучал внутри и говорила б она что-то про себя. Когда она задумывалась, губы ее часто шевелились, она все равно что-то произносила, как немая, одними губами. Она не добренькая, а упрямая, убежденная во всем, что делает. Потому она никогда не признавала, если была не права, это было для нее, казалось, физически невозможным -- осознать, что она могла поступить неправильно. Тогда уж все оказывались не правы, но только не она, и это была черта, которую именно как слабость и надо ей было единственно прощать. Принуждать ее каяться да осознавать свои ошибки - значило бы мучить, то есть значило бы не любить ее; однако столько умела она прощать любимым людям, что это искупало неумение ее раскаиваться: в том, сколько она прощала, этого раскаяния было сполна.
Мама чистила, утюжила, стирала, прибирала, готовила, но при том никогда не позволяла себе иметь усталый или раздраженный вид. Все это делалось с той легкостью, какой хватало, чтобы всего этого не замечать. Это было как воздух - ее забота. Но шнурки на ботинках завязывал всегда сам, с самого раннего детства, как только оказался в детсаду. Большего не требовала - лишь этого умения и лишь для того, чтобы в детсаду облегчить мне жизнь. Шнурки научила завязывать бантиком. Это нравилось мне делать, потому что походило на фокус, а фокусы я любил. Узелок напоминал бабочку.
Но первым чувством осознанным к маме было не чувство любви, а понимание своей вины. Такую нежность, что доходила порой до страдальческого трепета, во мне пробудил однажды вид ее страданий. Это случилось в том возрасте, когда я помню все бывшее только как призрачные мгновения будто бы потусторонней какой-то жизни. Сижу в большой комнате на ковре да играю оловянными солдатиками. У меня их куча, этих солдатиков, - просто блестящие, конница гражданской войны, где все в буденовках, витязи, морячки и натурально раскрашенные под солдат болванчики - зеленые, в касках, с красными погончиками, застывшие по стойке "смирно"; а один стоит со знаменем, и это знамя - острое, похожее на штык. Копошился, играл, а по комнате ходила мама в своих заботах. Уже я бросил от скуки солдатиков, а тот, что со знаменем, затерялся на ковре - мама его не увидела и не убрала. Она снимала штору с карниза и когда спрыгивала с подоконника, то попала ступней прямо на штырь знамени. В квартире, кроме нас, никого не было. Мама упала на ковер, повалилась грудью и сквозь зубы издала один только мучительный стон. Что-то произошло. Она падала на моих глазах, но я не понимал, что же с ней происходит, только видел ее лицо, такое немощное и страдающее, будто его изнатужила вся боль, какую она только способна была стерпеть, чтобы не испугать меня. После всего на миг я увидел и орудие этой пытки - тварь эту со знаменем, что глубоко, чуть не по поясок, вошла ей в ступню. Мама как-то выдернула его, поползла, а я впервые в жизни, верно, увидел кровь, она хлынула у нее из раны. У нее остался шрам на серединке ступни. Я, как судорогой, был окован чувством вины. Стоило только увидеть на лице ее гримасу недовольства моим поступком, похожую на то, когда, сжимая губы, терпят боль, как сводило душу этой судорогой. Будто сама возможность, что могу принести ей боль и страдания, хоть все произошло поневоле, мучила после с малых тех лет. Но это чувство тогда же стало и очень сложным, потому что неминуемо я осознал и то, что возможность причинять боль есть и у мамы.
Так или иначе, но однажды она причинила мне боль или то, что осознано было мной впервые как боль, и это было душевное мучение, почти схожее с физическим. А случилось так, что она в первый раз не пришла ко мне, когда я не мог заснуть и звал ее. Были гости в доме, отцовские дружки, и она, наверное, хотела скорей уложить меня спать, а сама рвалась в компанию. Засыпать без нее я не мог, но это был не каприз, а что-то более глубокое, она же сама к тому меня и приучила, и вот вдруг не оказалось у нее то ли силы, то ли желания свои же правила исполнять. Но ведь до этого они исполнялись, и это было для меня, верно, самой жизнью, ее правила, без которых мигом окружали, терзали непонятность да страх. Она тогда уложила меня и сказала, что выпьет стакан воды и вернется, и это было как обещание, а вера в обещания у детей схожа с верой, что их любят. Потому ждал я исполнения этого обещания и тем более не мог заснуть, что было это и ожиданием необходимым маминой любви, покоя, уходящего в ночь. Она не шла. Стал я звать в темноту все громче и громче, а темнота делалась без мамы все невыносимей и страшней. После кричал уже навзрыд, рыдал, звал ее, но она не шла, будто и вовсе ее не стало.
Наутро я не мог говорить - сорвал голос; а в ту ночь уснул, вероятно, только от изнеможения. Не помню, как она мне все объяснила, но я ей не поверил, и в душе явилось еще неведомой ясности видение, знание - что она говорит неправду. И это чувство не стало затаенным во мне, а обрело себя пусть в молчаливом, но осознанном осуждении той же неправды. Но еще неожиданней тем самым я обрел черту, самую глубокую в маме: и она осуждала, остро чувствуя, всякую неправду, будто родилась судьей; и она мучилась чувством вины от одной той возможности, что может причинить боль, а это давало ей дар справедливости, такой же как дар веры, дар любви, но вот, причиняя боль, она с трудом это понимала или же, словно судья, даром своим убеждала себя уже в том, что поступила справедливо, и боль душевная, которую она причиняла, становилась как суд, как нравственный, в исполнение приведенный приговор.
Узел этот в наших душах завязался сам собой, и не по родству, а словно бы потому, что он был чем-то роковым. В том все мы - родные - должны были мучить друг друга и никогда уж не распутаться. Судить друг дружку, чувствуя в том справедливость. Быть друг для друга орудием пытки нравственной, сами того не осознавая, то есть отчего же, нет - осознавая это как благо! Мама много с мной разговаривала, почти со страстью к разговору, будто в словах она утоляла голод. С детства я всех посторонних удивлял серьезностью, почти угрюмым выражением лица, но я ведь с детства слышал только эти мамины разговоры и впитал, как губка, ее серьезность. Всякую мелочь ей требовалось сделать для себя понятной. Если я портил одежду или игрушки, мама говорила, впрочем, без жалости к потраченным деньгам, а как бы делая вслух на мой счет важные выводы, что мне нельзя покупать "дорогих вещей". Еще делала вывод, что я не умею ценить подарков, но это, кажется, даже льстило ей - что я превращал в хлам игрушки, а было не раз и такое, что дарил кому-то их. Она объясняла это как бескорыстие, отсутствие жадности; больше всего гордилась, что приучила не думать о деньгах и относиться к деньгам с презрением. И я не смел уже думать, что люблю деньги, путаясь вообще, люблю ли я деньги или это стыдно их любить - так и в остальном.
Но я мог бегать весь день по двору, зная, что никто не спохватится. У меня была родная сестра, однако что-то всегда разлучало нас, будто и росли как не родные - в разных местах, порознь, - а не под одной крышей. То есть я понимал с каких-то пор, что родились мы от разных людей. И порой мучила мысль, что уже матери я могу быть не родным; подкинутым кем-то, найденным где-то, о чем только один я и не знаю. Я знал о себе только то, что слышал из ее рассказов, и было мучительной тайной то, чего не знал. Мучительной потому, что нельзя было знать: будет ли так, что тебя ни за что и никогда не разлюбят, или будет так, что станет можно прожить вдруг без тебя.
Новая жизнь