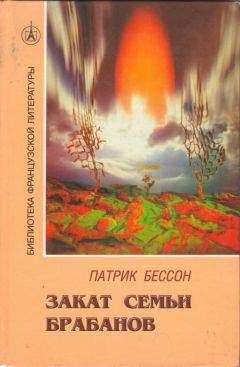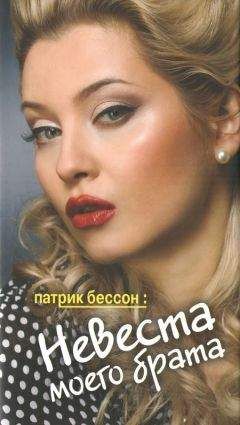Патрик Бессон - Титаника
Ресторан «А la Carte» находился позади Парижского кафе. Многие уже поужинали, и зал был наполовину пуст. Я устроился в нескольких метрах от супругов Астор, чтобы уловить обрывки беседы. Похоже, разговор был серьезный, иначе они давно присоединились бы к своим друзьям, она — в кафе «Веранда», он — в курительном помещении для первого класса. Я услышал Мэдлин, которую я воображал своей, — это то, что психоаналитик Лакан ощущал в одиннадцать лет и, без сомнения, истолковал впоследствии как «Шерстяную маму», — она прошептала: «Я вас прошу, Джон…» А супруг, затерянный в своей большой, абсурдной мечте о вечной молодости и абсолютном счастье, все жаловался, что до сих пор нет сообщения, которое он ждет из Нью-Йорка. Мэдлин защищала радистов — Филлипса и Брайда из фирмы Маркони и отмахивалась от вымученных доводов своего супруга. Аннабел Корк, в желтом кружевном платье, с ожерельем из крупных зеленых камней на длинной белой шее, возникла перед моим столом. Она пришла из Парижского кафе, где собралась «маленькая банда» — супруги Корк, Андрезен и Морнэ. Я поднялся и поклонился с нарочитой, приторной учтивостью.
— Мы вас ждем на бридж, — сказала Аннабел.
У нее был игривый вид, и я понял, что Батшеба на ушко рассказала ей о нашем соитии. Большинство людей занимаются любовью, чтобы потом рассказать, как все было.
— Вас и так шестеро.
— Старики не хотят играть.
— Я тоже, должно быть, староват, потому что не хочу играть.
— Это не любезно по отношению к Батшебе.
— Если она нуждается во мне, она знает, где меня найти: каюта «Е104».
— Вы знаете, что есть пределы грубости и нахальству?
— Да, и я их ищу.
Почему я был таким высокомерным с подругой женщины, которая оплачивала мою еду? Я думаю, что потребность уединиться помутила мой ум. Я расплатился — пять долларов, около трехсот франков одна тысяча девятьсот семьдесят четвертого года, покинул ресторан и сошел в мою каюту. Неужели Батшеба Андрезен стала меньше интересовать меня с тех пор, как я узнал, что она не хочет убить своего мужа? Мне хотелось оказаться одному в постели с книгой, как раньше, когда я был девственником.
Глава 16
Голубой айсберг
— Просыпайтесь! — кричал Филемон Мерль.
Был воскресный вечер, и я не спал. День я провел в одиночестве. Эмили не показывалась ни на палубе, ни в ресторане. Августа Уоррен уверила меня, что ее племянница продолжает отделывать свой последний сборник и ничего не ест, кроме чашки горячего молока с бисквитом каждые шесть часов. На закрытой прогулочной площадке мадам Андрезен и две ее спутницы бойкотировали меня — мне от этого было ни тепло ни холодно. Но все-таки было холодновато. Температура снизилась еще на десяток градусов. Как будто мы повернули время вспять, вернувшись в зиму. Что касается Филемона Мерля, он не выходил из госпиталя. Утром я нанес ему короткий визит. Он спал. Доктор Симпсон велел стюарду принести его вещи, и каюта «Е104» до самого Нью-Йорка была в полном моем распоряжении. Вначале это мне нравилось, потом мне стало казаться, что я променял свободу на комфорт, что мою жизнь заперли. На ключ. Я не присутствовал на богослужении капитана Смита, куда были приглашены пассажиры всех классов. Для них это была возможность перед смертью убедиться, что жизнь еще более несправедлива, чем они думали. Более того, после ужина я не пел гимны под руководством преподобного Картера в обеденном зале второго класса. Этот день был слишком благочестивым для меня. На «Титанике» царила атмосфера религиозного фанатизма, который и погубил нас. Всех этих людей, которые каждый день, и особенно в воскресенье, клялись, что имеют только одно желание — отправиться на Небо. Бог, чтобы развлечься, решил поймать их на слове. Но, поскольку Он — левша и, значит, видит мир наоборот, Он их отправил в воду. Во время кораблекрушения я понял Его веселую и забавную игру. Когда мы падаем, даже со стула, то чувствуем, что это Он нас толкнул. В один прекрасный день Он толкает нас посильнее — и мы падаем в могилу.
— Доктор Симпсон позволил вам выйти? — спросил я Мерля, чье возвращение в мою жизнь я воспринял как дар Небес. Действительно, со вчерашнего полудня я скучал по нему.
— Поднимайтесь и одевайтесь.
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Потому что он абсурден: если я здесь, значит, доктор Симпсон мне позволил выйти.
Он смерил меня взглядом и через несколько секунд не сдержал улыбку сумасшедшего:
— Хорошо, согласен, я его уложил на месте, но это вопрос жизни и смерти.
— Для кого?
— Для пассажиров «Титаника». Кораблекрушение будет сегодня вечером.
— Да бросьте.
— В конце концов, Жак, вы это хорошо знаете. Вся наша работа, все наши поиски это доказывают. «Титаник» должен потонуть, и это произойдет через несколько минут.
— Вы — сумасшедший.
Он долго смотрел на меня, грустно, как больная собака.
— Я понимаю, Симпсон говорил с вами. Он открыл вам мое психиатрическое досье. Это незаконно. Когда мы будем в Нью-Йорке, я подам на него в суд. — Он хлопнул ладонью по лбу. — Я думаю, мы никогда не будем в Нью-Йорке. Ну, хорошо, вы правы — у меня проблемы с психикой. Жизнь для меня — слишком извращенный процесс. Мой рассудок треснул, как скоро треснет слишком хрупкая сталь «Титаника». Но это не значит, что мои мыслительные способности вылетели в трещину! Если я говорю, что крушение будет сегодня вечером, — значит, так оно и есть.
— Дайте мне поспать!
Он надевал свой спасательный жилет. Лицо его выражало все большее смятение, и я понял, что он прав. Страх, отпустивший меня после откровений Симпсона вчера вечером, снова овладел мной.
— Жак, это серьезно. Хотите знать, что происходит в рулевой рубке? Мы по команде нашего дорогого капитана Смита на полной скорости идем к леднику. Мой информатор сказал мне, что «Титаник» получил около шести радиограмм — с «Коронии», с «Балтики», с «Америки» и «Калифорнийца» — с предупреждениями о дрейфующих льдах. Последняя радиограмма была в двадцать один час тридцать минут. Она пришла с «Месады». Филлипс быстро сошел в госпиталь, чтобы дать мне копию. Он мой информатор с начала плавания. Эти телеграфисты так любят поболтать, особенно когда вы даете им хорошие чаевые…
Он вынул из кармана пальто голубую бумагу и читал, держа радиограмму на расстоянии от глаз — он был дальнозорким и потерял очки в третьем классе или в госпитале.
— «Присутствие ледников распространяется с 42 градусов по 41 градус 25 минут северной широты и с 49 градусов но 53 градуса 30 минут западной долготы. Виден паковый лед, очень толстый, и много больших айсбергов, а также ледяных нолей. Погода хорошая и ясная».
Я вздохнул, спускаясь с постели и одеваясь — тепло, по совету Мерля. Он топал перед приоткрытой дверью. Потом мы прошли через весь корабль и пришли на конец носовой части верхней палубы как раз вовремя, чтобы увидеть голубой айсберг, возникший в ночи, пропитанной вонью тухлой рыбы. Вверху звонил колокол — ночной вахтенный предупреждал рулевую рубку. Филемон с ужасающей веселостью толкал меня локтем в бок и повторял голосом колдуна:
— Мерль не так глуп… Не настолько глуп…
О ком я думал в первую очередь, когда корабль столкнулся с айсбергом? О моих родителях? Об Эмили Уоррен? О Батшебе Андрезен? О себе? Нет, о Мэдлин Астор. Отныне у меня был небольшой шанс, что она вскоре овдовеет, — ее каюта была на левом борту. Избыток эмоций приводит иногда к избытку цинизма — кажется, это нормальная реакция у здорового молодого человека.
Глава 17
Спасение
Я должен был вернуться в каюту, чтобы надеть спасательный жилет, что даю Мерлю повод бросить мне насмешливо:
— Я вам говорил: возьмите его с собой!
Машины «Титаники» остановились как раз в тот миг, когда лифт спустил меня на палубу «Е». Перед моей дверью я увидел Эмили Уоррен с тетрадью в руке.
— Что вы здесь делаете, Эмили?
— Я пришла, чтобы отдать вам мои стихотворения. Которые я закончила отделывать. Только что был странный шум.
— «Титаника» столкнулась с айсбергом.
— Это поэтому она остановилась?
— Капитан Смит, без сомнения, захочет выяснить, насколько серьезны повреждения, прежде чем продолжить маршрут.
— Вы думаете, это серьезно?
— Да.
— Мы утонем?
— Да.
Я ответил «да», но это говорил не я. Когда мы говорим о вещах, о которых не знаем, что думать, это звучит так, будто говорим не мы, и сказанное почти всегда оказывается правдой. Эмили побледнела или, вернее, стала светло-серой, как обложка ее тетради. Она села на нижнюю постель, что было не в ее привычках. Она спросила меня голосом ребенка, — когда нас наказывает судьба, мы склонны вести себя и, значит, говорить, как будто нам пять лет, возраст, когда нас наказывали, — что я делаю.