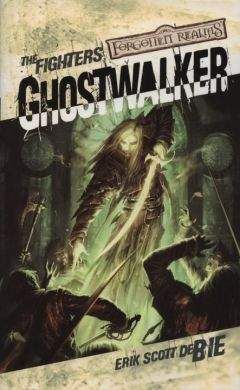Леонид Зорин - Кнут
Разумеется, через Якова Дьякова было отправлено приглашение Георгию Гурьевичу Подколзину. По своему обыкновению суровый отшельник не явился, но Дьяков пришел и посулил, что будет как бы его представителем.
В очень коротком вступительном слове добропорядочный Порошков выразил твердое убеждение, что цель собрания очевидна, необходимость его назрела. Давно уже пора уяснить, можно ли совместить культуру и торжествующую цивилизацию. Могут ли они быть союзниками или обречены враждовать? Неужто культура это та рыба, которая с головой накрыта этой Всемирной Сетью Эфира? Запуталась она в ней безнадежно или сумеет освободиться и вырваться в океан Постижения? Какую дорогу, какой маршрут история предлагает культуре? И существует ли выбор пути? Быть может, в эпоху глобализации путь этот жестко детерминирован? Все это предстоит обсудить и выяснить, что надлежит нам делать.
Выдающийся постмодернист Вострецов сказал, что он в курсе тех опасений, о коих помянул председатель. Бесспорно, они имеют место. И все же культуру нельзя разомкнуть, она, безусловно, единое целое. Недавно он побывал в Аргентине, встречался там со своими читателями. Последние ему рассказали про то, как Кортасар ценил его творчество. Конечно, он чувствует свою связь с таежным бором, с излучиной Дона, а также с Бештау и Машуком — не раз он бывал на их вершинах, — и тем не менее, ему ясно: как сам он — часть мировой культуры, так и она — часть его духа.
Взволнованную речь Вострецова горячо поддержал Федор Нутрихин, другой знаменитый постмодернист и тоже неутомимый странник. Нет смысла скрывать, что долгое время он тоже ощущал некий страх перед агрессией Интернета. Сравнительно недавно в Париже он встретился с Франсуазой Саган и поделился с ней своей мыслью: наш бедный мир подобен Эдипу, его невозможно остановить в стремлении к открытию истины, которая может быть ужасной. И Франсуаза сказала ему, что ищет спасения от неведомого в самозабвении и бегстве. Нутрихину стало безмерно тяжко, столь модная Мировая Сеть ему почудилась божьей карой. Однако с тех пор, как он в ней открыл свою страницу и хлынул в ответ могучий поток благодарной признательности, Сеть эта уже не кажется страшной. Наоборот, день ото дня она становится теплым Домом. Из этого он делает вывод о том, что культура это не лань, преследуемая волком прогресса. Можно их впрячь в одну телегу, летящую в двадцать первый век.
Оба талантливых манифеста были подхвачены Маркашовым — вопреки общепринятой идеологии, он с детских лет себя ощущал исключительно гражданином Мира. Однако верный себе Полякович внес, разумеется, диссонанс, заняв скептическую позицию. Он сказал, что культурный экуменизм все еще остается утопией. Значение и богатство культур определяется их различиями. Это понятно, ибо иначе они дублировали бы друг друга. Эти различия соответственно исходят из народной ментальности.
Ему возразил актер Арфеев, напомнивший слова Достоевского о всемирной отзывчивости России. Культуролог Годовалов заметил, что различия вовсе не исключают ни конвергенции, ни диффузии.
В этом месте Дьяков громко зевнул и на учтивый вопрос Порошкова, не означает ли этот зевок, что Яков Янович просит слова, ответил, что нет, не означает. Полемика явно беспредметна, — проблема исчерпана Подколзиным.
Это имя незримо реяло в воздухе. Теперь, произнесенное вслух, оно мгновенно материализовалось и вызвало общее возбуждение.
— Что вы имеете в виду? — несколько нервно спросил Маркашов. — Можно ли исчерпать проблему одним-единственным произведением?
Яков Дьяков пожал плечами.
— Смотря каким. «Кнутом» — безусловно. Ибо «Кнут» являет собою синтез. Он утверждает соединение, он и очерчивает границы.
— Что и требовалось доказать! — запальчиво крикнул Маркашов. — Вы признаете, что кнут — цензура.
— Вы так полагаете? — оскалился Дьяков.
— Да, кнут — цензура по определению. «Очерчивает границы». О, да! Шаг влево — побег, шаг вправо — побег. Кнут обуздывает.
— Что именно?
— Дух! — яростно крикнул шестидесятник.
— Ах, вот как? А если — хаос? Бесформенность? Стремление к анигилляции?
— Кнутом стегают! И очень больно, — с горечью произнес Маркашов.
— Да поднимитесь вы над собой, — устало предложил Яков Дьяков. — Что за школярские рассуждения? Вы словно заложник этимологии. Кнут вкуса может и ограничить, кнут вдохновения вас подхлестывает, и вы, как ошпаренный, взлетаете в почти запредельную высоту.
— Свидетельствую, — сказал Глеб Вострецов.
— Браво, творец, — одобрил Дьяков. — Кнут побуждает к преодолению. Преодоление — суть бытия.
— Творческому человеку кнут нужен, — авторитетно сказал Арфеев.
— Браво, артист! — восхитился Дьяков. — Речь не только артиста, но мужа. Кнут сплавляет интуицию с разумом, а творчество и есть этот сплав.
— Но, знаете ли, преодоление присуще по-своему и революции, — корректно заметил Порошков. — Она преодолевает уклад.
— При этом, не гнушаясь насилием, — добавил упрямый Маркашов. — Кнутом нас, кнутом!
— Господи праведный! — Дьяков только развел руками. — Прямолинейность Маркашова вошла в пословицу, но наш председатель, известный своим образом мыслей, несколько меня удивил. Кнут предупреждает насилие, перевороты и потрясения! Он остужает горячие головы, но горячит охладевшую кровь. Есть мысль, толкающая к капитуляции, есть мысль, дающая импульс к действию. Подколзин видит мысль как кнут и кнут как мысль.
— Кнут как демиург? — задумчиво спросил Годовалов.
— Можно и так. Это близко к истине, — милостиво согласился Дьяков.
— Кнут есть Бог, — не без желчи сказал Полякович.
— Ну, наконец-то, наконец-то! — Дьяков победно усмехнулся. — Все-таки и до вас дошла его деистическая природа. Пастух гонит стадо из хлева кнутом. Вот образ неподкупного Пастыря, который гонит менял из храма.
Держась дрожащей ладонью за сердце, Маркашов прошептал:
— Вспомнили б Пушкина… Дьяков, вы сейчас утверждаете «необходимость самовластья и прелести кнута…».
— Маркашов!! Побойтесь бога, — нахмурился Дьяков. — Зачем вы тревожите лицеиста? Был молод, задирист. Либертинаж. Хотелось поддеть Карамзина. Этакий сладкий хмель ювенилий. И с Карамзиным все не просто, а относить эти строки к Подколзину — воля ваша, это уж непростительно. Низвести термоядерный взрыв интеллекта до уровня юношеской эпиграммы… ах, Маркашов, мне за вас совестно. К чему нас приводит страсть к возражениям, когда становится самоцелью!
Младая Глафира Питербарк с подавленным вздохом произнесла:
— Не стану говорить о мужчинах, но нашей сестре кнут, видимо, нужен.
— Браво, Глашенька, — похвалил ее Дьяков. — Искренность — верный признак недюжинности.
Полякович сказал:
— Куда ни кинь, — в основе все-таки ницшеанство.
Зеленые дьяковские очи ожгли его недоброй усмешкой.
— Все ищете для яиц корзины? Ницше, Захер-Мазох, де Сад… Без этих перил и шагу не ступите. А между тем этот ваш Ницше рядом с Подколзиным — первоклассник! Все эти тронувшиеся классики с провинциальной их мизантропией не побывали в двадцатом веке. Трогательный детский театр рядом с сегодняшней Мельпоменой. И это наше громадное счастье, что мы вступаем в новый миллениум вместе с Подколзиным. Он тем и велик, что смог объять решительно все и дал нам Слово, — но не изначальное, а подлинно конечное Слово. Оно — идея, метафора, символ. Оно окрыляет нас для полета и дисциплинирует для труда.
Полякович пробормотал:
— Никто из присутствующих не отрицает незаурядности Подколзина. Но что уж сразу глушить нас всех словом «великий». Такие эпитеты, в конце концов, — привилегия будущего.
— О, не пугайтесь, — вздохнул Яков Дьяков. — Подколзина никакой эпитет не отвлечет от его предназначенности. Не зря он все время себя проверяет. Поэтому мы с вами и читаем его проповедь, а вернее — исповедь, в рукописи — легкомысленный малый не оправдал его доверия, а он не хотел ее выпускать. Пока мы здесь спорим и точим лясы, он в келье сидит за своим столом и мысль его, как лазерный луч, вторгается в самое сердце проблемы. Что же касается дальнего будущего, которого мы должны дожидаться, то существует такое понятие, как опережение, — это слово Яков Дьяков произнес со значением. — Подобно тому, как сам Подколзин опережает своих современников, встречаются люди, которым не нужно ждать разрешения от потомков.
— Что ж, Яков Яныч, таких людей не столь уж мало, — сказал Порошков. — И даже если вы увлекаетесь, что делает честь вашей душе, посылки вашей они не оспаривают. Клара Васильевна, дорогая, я разглядел за черным веером вашу улыбку. Что вы нам скажете?
Клара Васильевна сложила веер и утомленно проговорила:
— Лишь то, что так оно и происходит. Люди витийствуют, спорят, волнуются, но вот однажды вдруг возникает вчера еще неизвестный Подколзин и расставляет все по местам. За срок, что мы живем на земле, так уже несколько раз бывало. Вначале это всегда изумляет, шокирует, вызывает протест, с течением времени мы понимаем, что не должны швырять каменьями, а наоборот — благодарить. Я только хотела бы большей точности, — все тут говорят о мыслителе. Справедливо, но очень важно понять, — он не столько производитель концептов, сколько антенна, даже медиум, воспринимающий мысль из ауры, а дар его неведомым образом этот сигнал переводит в текст. Ближе всех к истине был Яков Янович, сказавший, что перед нами — исповедь.