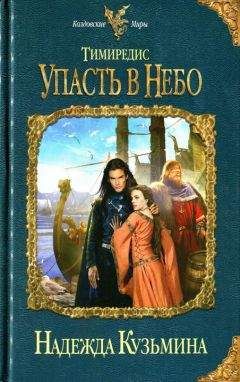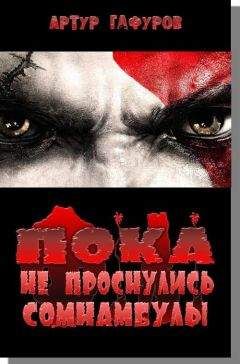Борис Виан - Сердце дыбом
— Ты сошла с ума? — высказал предположение Анжель.
— Нет. Но ты мне физически неприятен. Я люблю тебя как человека… хочу, чтобы тебе было хорошо… Но только не так… Не такой ценой… Я этого просто не выдержу.
— Но я ничего такого не собирался делать, — сказал Анжель. — Просто повернулся и задел тебя. Что за истерика?
— Это не истерика. Теперь это моя нормальная реакция. Уйди к себе! Пожалуйста, Анжель! Прошу тебя!
— Нет, ты явно не в себе, — пробормотал Анжель.
Он попытался погладить жену по плечу. Клемантина вздрогнула, но стерпела. Тогда он прикоснулся губами к ее виску и встал.
— Хорошо, дорогая, я ухожу. Успокойся…
— Постой… — остановила его Клемантина. — Я… ну, как бы это сказать… в общем, я тебя больше не хочу и, наверно, никогда не захочу… Найди себе другую женщину… Я не буду ревновать.
— Значит, ты меня больше не любишь… — горестно сказал Анжель.
— Так — нет…
Анжель вышел из спальни. А Клемантина все сидела и разглядывала на подушке ямку от его головы. Он всегда спал на самом краешке.
Кто-то из малышей завозился во сне. Клемантина прислушалась. Малыш утих. Она погасила свет. Теперь ее постель принадлежит ей одной, никогда больше ни один мужчина к ней не прикоснется.
21Жакмор тоже выключил свет. Еле слышно скрипнула кровать в комнате прислуги — получив свое, девушка ушла и улеглась спать. Жакмор же долго лежал навзничь без сна. Бешено колотилось сердце, беспорядочно теснились в голове впечатления последних дней. Но постепенно напряжение ослабло, занавес утомленных век опустился на истерзанные самыми несуразными зрелищами глазные яблоки, и он задремал.
Часть вторая
Вторник, 7 мая
На том же плато, где стоял большой дом, но далеко за пределами парка, за рваным мысом, который море гложет день и ночь, гордо возвышалась бесформенная, обтесанная ветром глыбища. На ней росли только редкие папоротники, и посещали ее только дикие козы. Из дома этой скалы не было видно. Называли ее Береговым Братцем в отличие от торчавшего перед ней, чуть левее, Морского Братца. С трех сторон на нее можно было забраться без особого труда. Но задумавшему восхождение с четвертой, обращенной на север, стороны пришлось бы с риском для жизни карабкаться по крутым уступам и коварным карнизам, словно по бредово-конструктивистскому фасаду.
Здесь иногда проходили учения таможенников. Целый день инструкторы в полосатых бело-зеленых спортивных костюмах вдалбливали новичкам основы скалолазания, необходимые для обуздания контрабанды.
Но в тот день на Братце не было никого. Кроме Клемантины. Вжимаясь в камень, она медленно поднималась, проверяя надежность каждого захвата.
Южный, западный и восточный склоны она легко покорила в предыдущие дни — то были детские игрушки. Сегодня предстояла задача посерьезнее. Северный бок Братца — отвесная стена, ухватиться не за что, голый гранит.
На этой вертикальной стене она сейчас и распласталась. Еще три метра — и можно будет ухватиться за край уступа. Вообще говоря, самое трудное только там и начиналось: вершина Братца шла нависающим гребнем. Но пока что надо было преодолеть и эти три метра. Клемантина висела над пропастью, удерживаясь в наискось прорезавшей гранитную плиту трещине только кончиками обутых в веревочные тапочки ног. В трещину набился грунт, на нем выросла чахлая травка — зеленая полоска на сером фоне, напоминающая ленточку «За заслуги в сельском хозяйстве» в петлице учительского мундира.
Клемантина дышала медленно и глубоко. Выше, выше, точно муха по стеклу. Три метра. Всего три метра. Меньше, чем два ее роста.
Кое-какие шероховатости, если приглядеться, все-таки были. Надо только уметь смотреть: достаточно внимательно, чтобы их заметить, но не слишком пристально — иначе сообразишь, насколько они ненадежны, и ужаснешься.
Клемантина уцепилась обеими руками за два таких сомнительных бугорка, и ничего.
Коленки терлись о камень. Она поднялась на тридцать сантиметров выше зеленой полоски.
Перевела дух, осмотрелась и поползла опять. Еще через десять минут она вскарабкалась на карниз, с которого начинался последний этап. К взмокшему лбу прилипли пряди волос. Разгоряченное тело источало запах, похожий на запах прелой травы.
Карниз был узкий — не пошевельнешься. Она только повернула голову и увидела внизу, в необычном ракурсе, окруженного бахромой пены Морского Братца. Солнце стояло уже довольно высоко, и лучи его, преломляясь в мелких брызгах, окаймляли прибрежные камни радужными облачками.
Макушка Берегового Братца нависала сверху, похожая на наклоненную вперед приоткрытую книгу. Клемантина собиралась ползти по этому глубокому покатому желобу.
Запрокинув голову, она оглядела гребень и простонала от наслаждения. Влажное пятно расползлось у нее по брюкам между ног.
2Сопливая троица ползала на четвереньках по комнате, где их запирали перед трехчасовым кормлением. Они уже не спали, как прежде, круглыми сутками и были рады поразмять задние конечности. Ноэль и Жоэль повизгивали. Степенный Ситроен не спеша описывал круги вокруг низенького одноногого столика.
Жакмор наблюдал за близнецами. Теперь, когда из личинок они превратились в забавные живые существа, он часто сидел с ними. Благодаря климату и хорошему уходу они развивались поразительно быстро. У первенцев, Ноэля и Жоэля, волосики были светлые и прямые. Ситроен, сохранивший с рождения темные кудри, выглядел на год старше братьев.
Само собой, у малышей текли слюни. Стоило одному остановиться, как на ковре появлялось мокрое пятнышко, и тягучая прозрачная ниточка, свисавшая у виновника из уголка рта, обрывалась не сразу.
Жакмор наблюдал за Ситроеном. Глядя в пол, мальчик ползал, как заведенный, но завод уже кончался. Вот движения его замедлились, он сел и внимательно, переводя взгляд все выше, осмотрел столик.
— Ну и что ты надумал? — спросил Жакмор.
— Абу-у… — был ответ.
Ситроен протянул руку к столику. Далековато. Тогда все в том же сидячем положении он подвинулся поближе, легко ухватился за край столешницы, подтянулся и встал.
— Молодец! — похвалил Жакмор. — Именно так это и делается.
— О-о… абу! — откликнулся Ситроен, отпустил столик и тут же с удивленным видом плюхнулся на попку.
— Ну вот, — сказал Жакмор. — Не надо было отпускать. Все очень просто. Через семь лет ты пойдешь к первому причастию, через двадцать выучишься, а еще через пять — женишься.
Ситроен с сомнением покачал головой и снова, уже куда быстрее, вскочил на ножки.
— Что ж, — подытожил Жакмор, — значит, надо звать сапожника или кузнеца. Здесь, дружок, воспитание жесткое. Хотя подковывают же лошадей, и ничего страшного. Это уж как решит твоя матушка.
Он лениво потянулся. Что за жизнь! И совсем не с кем проводить психоанализ. К дурехе-служанке не подступиться. Уперлась — и ни в какую.
— Наверняка мне же и придется идти в деревню по этому делу, — подумал психиатр вслух. — Я не был там уже несколько недель.
Ситроен снова кружил вокруг столика, но теперь не ползком, а на ногах.
— Ого, — заметил Жакмор, — смотри, какой бедовый! Этак ты обскачешь мою программу. Отлично, скоро будет с кем погулять.
Жоэль и Ноэль проявляли признаки беспокойства. Жакмор взглянул на часы.
— Действительно, подходит время. Собственно, уже подошло. Ну ничего, каждый может запоздать.
Жоэль разревелся первым. Ноэль подхватил. Ситроен хранил спокойствие и смотрел на братьев с презрением.
Было уже половина четвертого, когда явилась Клемантина. Жакмор за все это время не сдвинулся с места. Сидел невозмутимо, как будто не слышал оглушительного ора двойняшек. И столь же безмятежно восседал на коленях у психиатра и таскал его за бороду Ситроен.
— Наконец-то! — сказал Жакмор.
Левая штанина Клемантины была разорвана снизу доверху. Скулу украшал здоровенный синяк.
— Похоже, вы не скучали, — заметил Жакмор.
— Верно, — сухо сказала Клемантина. — А вы?
Этот ровный, сдержанный тон никак не вязался с видимым возбуждением, которым трепетал каждый мускул ее тела.
— Орут, как резаные, — заключила она после минутного наблюдения.
— Еще бы, — сказал Жакмор, — они проголодались. Они, между прочим, нуждаются в вас не меньше, чем эти ваши каменные братцы.
— Раньше я не смогла, — сказала Клемантина. — Первым получит самый терпеливый.
Она взяла с коленей психиатра Ситроена и устроилась с ним в другом кресле. Жакмор целомудренно отвернулся, ему было неловко смотреть, как Клемантина дает ребенку грудь; вид синих жилочек на белой коже слишком волновал его. И вообще он считал, что женская грудь существует не для того, чтобы совать ее в рот молокососам.