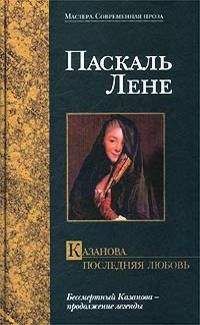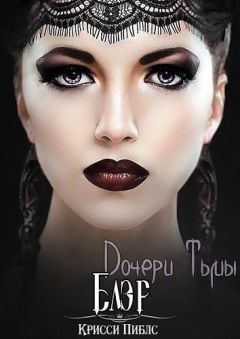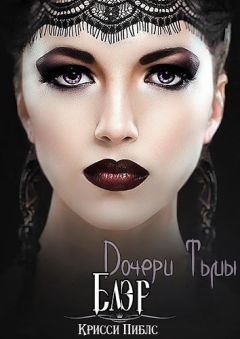Марианна Гончарова - Землетрясение в отдельно взятом дворе (сборник)
Все, кто со мной давно знаком, например мой муж и дети, мои друзья, моя мама, немедленно закрыли бы мне рот. Ладонью, куском сыра, поцелуем, в конце концов. Но я стояла одна-одинешенька, с сожалением поглядывая на своих товарищей по прыганью под национальную музыку, стояла перед этой вроде бы умирающей, но очень энергичной чиновницей.
«Вы хоть знаеце?!» — продолжала она, размахивая рукой перед моим лицом.
«Знаю, знаю, — ответила я. — А ОН знает?! Он знает, кому ОН на ногу наступил?» — смотрела я честно прямо ей в глаза. Черные брови, и помада такая… Вылезла за границы губ… Противная… И костюм. И эти прядки… Я вам говорила, что ненавижу?… Ах да, говорила…
Дама от неожиданности сделала губами куриную… эту… Как это говорится… куриную гузку.
«Что?! Что вы себе позволяеце?! Немедленно идемце и попросице прощения! Немедленно!»
Чиновница даже схватила меня за руку. (Не надо было ей этого делать, ох не надо было! Кроме фальшивых блондинок, обведенных контуром ярких нарисованных губ, я еще не люблю навязанного физического контакта. Есть такое слово — «прайвеси». Ну частное пространство, по-нашему…) Словом, когда она схватила меня за руку, перебив мои радостные размышления про жизнь и хороших людей, оборвав такой веселый дружный хоровод с моей прекрасной старушкой в фартуке и юным пьяницей, я разозлилась. Я вырвала свою руку (многострадальную правую руку, которая еще до сих пор болит после февральского осколочного множественного перелома), я вырвала свою руку, повернулась и пошла к машине…
Вот так и окончился праздник. Вот так.
Третий глаз
Редактор нашего молодежного еженедельника Загаевский в общении с сотрудниками редакции оперирует всего несколькими фразами, самые распространенные из них: «Так», «Давай» и «Не морочь голову». При этом он ухитряется пользоваться уважением коллектива и выпускать популярную газету.
Рано-рано на рассвете просыпаются утята, и котята, и кто-то там еще, но я обычно как раз на рассвете крепко сплю. И, как обычно, звонит телефон. Пять утра. Загаевский уже на ногах. Почему бы его сотрудникам не проснуться тоже.
— Так. Ты что, спишь? — Зачем «Доброе утро? Извини, что разбудил»? Зачем эти формальности? — Ты что?! Спишь?!
— Нет, — говорю, — жду вашего звонка, Загаевский! — сонным голосом бормочу я.
Собственно, неважно, что Загаевскому говорить, на его вопросы можно и не отвечать, главное, дать понять, что ты есть на другом конце провода и слышишь его указания. Можно мычать, можно мяукнуть. Завыть, наконец. От такой жизни. Сегодня я спросила:
— Ну?
— Она приехала, — торжественно объявил Загаевский. — Так. Давай. Иди и бери у нее интервью. Люди это любят. Давай. Иди бери.
— А кто мне даст, — подала я реплику, — отметиться в эфире.
За окном темно. А тут еще долго выяснять, у кого брать и кто приехал. И вообще пять часов утра.
— Не морочь голову. Целительница Федосия! Кто же еще? Мать Федосия! Договаривайся давай! Спит она. Давай!
— Уже сейчас? — жалобно заскулила я.
— А когда? — поинтересовался ядовито Загаевский. — Если не хочешь мать Федосию, сделай материал по национальной самоидентификации!
— Кого?
— Что?
— Национальную идентификацию — чью?
— Кого — чью?
— Национальную самоидентификацию — кого?! Племени мумба-юмба? Или кого?! Чью?! — Я уже орала во все горло.
Если Загаевский хотел меня разбудить, он своего добился.
— Так! Не морочь голову! Давай! — И отключился.
Рекламные проспекты целительницы Федосии висели на каждом столбе. Там было сказано, что целительница и спасительница (ого!) мать Федосия ворожит на персте указующем, на вибрации голоса, на высушенных и растертых насекомых, на кофейной гуще и на фасоли. Пророчит и изменяет судьбу, исцеляет от всех болезней, помогает похудеть без диет, снимает порчу, изгоняет духов и открывает третий глаз. Тут я задумалась. Внешне я и так не очень, а с тремя глазами…
На фотографии сидела огромная пасмурная баба с лицом бывшего сельского клубного работника. Несколько тронутого былым девичьим легкомыслием. Баба Федосия в черном платке отгораживалась от фотографа двумя холеными пухлыми ладонями: мол, вот они, ручки-то, чистые, непорочные. Ими же и лечу.
Пробиться к Федосии по контактному телефону не было никакой возможности. На спасительницу-мать было установлено пять степеней защиты. Как в Пентагоне. Первый контактный номер, когда я представилась, послал меня на второй. Второй номер, когда я снова подробно все объяснила, — на третий. Третий послал на четвертый. А четвертый в крепких выражениях послал меня так далеко, что я не имела представления, каким образом туда попасть. Пятый номер оказался телефоном прорабского участка, куда, по всей видимости, я не первая позвонила по поводу встречи с целительницей-избавительницей. Пришлось записываться на прием на общих основаниях.
Федосия принимала в Доме культуры железнодорожников. Люди в очереди томились явно давно, ерзая и скрипя старыми откидными соединенными стульями, списанными из зрительного зала. Люди сидели и авторитетно делились диагнозами. Отдельной высокомерной группой стояли пышные нарядные похудантки.
— Вы по какому поводу сюда? — спросил мужичок с беспокойными глазами.
— Я? — раздумывала я, какой из моих малочисленных диагнозов предъявить. — Головные боли… Иногда…
— А я пью, — честно поделился мужичок, пытливо-искательно глядя мне в лицо. — Меня жена бросила. И я пью. А она… — Мужичок кивнул головой на дверь, за которой происходило таинство. — И жену вернет, и от пьянства вылечит.
— Вы уверены? — осторожно спросила я.
— Ну да! Наш сосед вон животом маялся. Был у нее вчера…
— Ну и как?
— Просветлился.
— А живот?
— Болит, — вздохнул сосед, — зато в глазах свет. И надежа. О как!
— А третий глаз?
— Не видел, не скажу… — Сосед погрустнел и замолчал.
К матери Федосии я вошла часов через шесть.
Она оказалась еще огромнее, чем на фотографии. Подперев рыхлое лицо рукой, устало сидела она у стола, на котором были выставлены разные плошки, банки, сухие букетики и стопка фотографий самой Федосии, той самой, что на объявлениях. В углу маялся от скуки молодой человек неясного предназначения.
— Гроши давайтэ, — не ответив на мое приветствие, равнодушно сказал юноша томный, протягивая коробку из-под обуви.
— А сколько? — растерянно спросила я у Федосии.
Федосия помолчала, оглядывая оценивающе мой свитерок, и величественно произнесла:
— А сколько дашь. Бо я лично… — Федосия для убедительности бережно уложила ладонь на необъятный бюст… — От лично я, — еще раз подчеркнула она свою причастность к откровению, — з презрением отношуся до этой суеты. Поняла? — И, обернувшись к своему мачо, повелительно и раздраженно велела: — Иды, Орест! Шо ты сыдышь отут!
Орест зевнул, лениво поднялся, выудил из коробки энную сумму денег под строгим взглядом хозяйки и медленно скрылся за дверью.
— Ну, — потирая руки, спросила Федосия, — будем чакры смотреть сначала чи хочешь сразу исцелятыся?
— Исцелиться, — неуверенно предложила я.
— Ну, тада ложись, — велела Федосия, махнув рукой на топчан, и начала выделывать руками то ли гимнастику, то ли массаж. Она терла одну руку о другую, вертела ими в разные стороны, крутила руки в кистях, сопела, кряхтела, постанывала — и все буквально перед моим носом.
После физзарядки спасительница неясно и мелко перекрестилась на икону Божьей Матери, установленной в углу, и грозно скороговоркой приказала:
— Гос-с-пди, баслави. — И добормотала машинально: — На усп-др-рс-тен-я!
У Богородицы на иконе, надо сказать, был растерянный и тревожный взгляд. По-моему, сегодня она занималась только Федосией и ей это порядком надоело.
Отправив все положенные по ее сценарию ритуалы, Федосия нависла надо мной, как коршун в платке, водя руками, как будто мыла невидимое окно, и зловещим шепотом пообещала:
— А сейчас на тебя накотит блаженствие! Будет жарко. Или холодно.
«Блаженствие» не катило, не накатывало. Но меня трясло. От смеха. Федосия явно думала, что от «блаженствия». Ее понесло без предварительного анонса:
— Ты, дорогенька, работаешь…э… З бумагами?
— Да… — Ну ясно, что не на стройке.
— Ага! Учителька? Бухальтер?
— Ну, собственно… — неопределенно замычала я.
— Ага! Ты бухальтер. И одинока-йя-а!!! — завыла Федосия, убедившись в отсутствии обручального кольца на моем безымянном пальце. — Порча. Будем знимать. А сейчас — чакры, — объявила целительница.
Она принялась обмерять меня пальцами, мурлыкая что-то себе под нос, как наш портной дядя Миша, когда снимает с меня мерки.