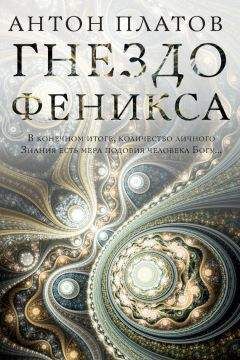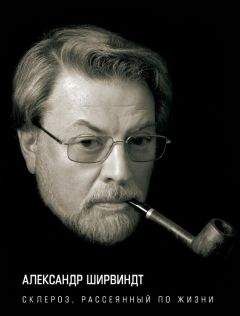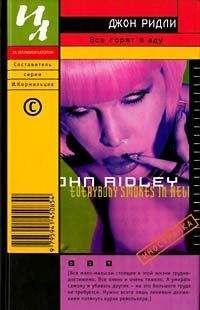Джон Барлоу - Животная пища
Но только они собрались уходить, как я схватил кепку, измерил ее, точно пойманную рыбу, и показал, что такой пустяк не способен утолить мой зверский аппетит. Кажется, толпа поняла, что я имел в виду, потому как со всех сторон на меня посыпались шутливые вопросы и предложения (которых я, впрочем, не понимал).
Мои прежние клиенты тоже оживились. Пока двое жестами просили меня никуда не уходить (да я и не собирался), остальные куда-то побежали.
«О, кабачки! С овощами я управлюсь!» – ликовал я про себя, предвкушая легкую поживу и скорое возвращение домой. А может, репа! Я бы с радостью съел полдюжины репок. Гнилая овощная мякоть вовсе не так ужасна, как можно вообразить.
К тому времени у моего грузовичка собралась добрая сотня зевак, и каждый пытался угадать, что принесут клиенты. Я все строил из себя гордеца, однако увлеченность публики настораживала – что бы мне ни предложили, отказать теперь будет сложно, да и опасно.
Наконец несколько заводчан вернулись с пустыми руками и стали ходить от одного человека к другому, что-то шепча и глупо ухмыляясь. Я только сумел разглядеть, как из рук в руки передают деньги: видимо, они собирали с каждого мелочь. Так продолжалось несколько минут, а потом все стихло.
Вернулись остальные. Они пробрались сквозь толпу и положили передо мной крупный брезентовый сверток. Один из сборщиков денег протянул мне кепку, полную монет. Я взвесил ее в руке – очень тяжелая. В своей горделивой манере я изобразил бурное восхищение и развернул сверток.
Собака. Полусгнивший труп собаки. Кажется, смесь йоркширского терьера и Лабрадора. Запавшие мутные глаза, на боках запеклись кровь и гной. Сперва я подумал, что это подделка, жестокая продуманная шутка. Но, дотронувшись до трупа, убедился, что он настоящий, уже окоченевший. Местами шерсть вылезла, обнажив желтовато-серую кожу, обтянувшую твердое мясо.
Заводчане подошли ближе. Их лица исказили самодовольные улыбки. Меня замутило – скорее от их улыбок, нежели от вида собаки. Я громко провозгласил:
– Вы, мерзкие безжалостные негодяи, не имеете права мне приказывать!
Попытка подражания Маллигану не удалась. Я слишком открыто насмехался над этими полунищими людьми. И от такой насмешки нельзя просто отказаться, особенно если не знать нужных слов. Мне пришлось пожинать плоды своего труда.
И я съел собаку.
Я исступленно молол труп, гадая, какие его части шевелились под воздействием острых лезвий, а какие – из-за миллионов паразитов, гнездившихся в смердящей плоти. Кости хрустели по всей «Машине», и вскоре на мою тарелку стал вываливаться фарш, источающий смрад разложения.
Я перекрыл доступ в дробильные отсеки сразу же, как только смог, и половина туши осталась в мясорубке. Но все же меня поджидала приличная гора фарша. И тогда я пошел на последнюю уловку, которой обучил меня Маллиган: вылил в свой кувшин целую бутылку самого острого табаско (обычно такой бутылки хватает на год). Когда на дне осталось примерно с дюйм соуса, я прополоскал им рот, так что мой язык полностью онемел, и я временно утратил обоняние.
Ел я максимально быстро, набивая полный рот фарша и запивая его огненной смесью. За изумленными охами зрителей последовали возгласы ужаса. Горькая аммиачная вонь тухлого мяса распространялась на несколько метров. Кто-то упал в обморок, многие шатались от отвращения, хватаясь за горло, – их рвало. Те, кто был сзади, бросались вперед, чтобы увидеть это собственными глазами, другие, наоборот, бежали прочь. В каждой ложке был твердый заплесневелый жир, который собирался толстым слоем на моем нёбе. Я отчаянно пытался соскрести его ногтями и видел, что он весь перемешан с собачьей шерстью. Еще глоток огненного сока. Я не смотрел на тарелку и прикрывал глаза, пока вонючее мясо проваливалось в мой желудок.
Наконец я принялся за последние куски фарша, плавающие в маслянистой крови на дне блюда. Я мельком поглядел на пьяных заводчан (некоторые все еще ухмылялись): не удастся ли мне вылить остатки? Кувшин опустел, табаско закончился…
Но они смотрели. Тогда я допил кровь. Заглушить вонь было нечем, и последняя ложка так и осталась на моем языке. Слюна вперемешку с гнилым мясом наполнила рот едкими соками, и я испугался, что меня вот-вот стошнит. Однако фантастическим усилием воли я заставил себя проглотить последние капли. В ту же секунду меня прошиб озноб.
Тут я увидел в руке одного рабочего бутылку с прозрачной жидкостью. Схватил ее и набрал полный рот бледно-желтого алкоголя – очень крепкого алкоголя, куда крепче, чем я ожидал, но в ту минуту мне было все равно. Я прополоскал рот и сплюнул, жадно выпил еще. Из вращающегося тумана опьянения и тошноты я увидел осклабившиеся лица и почувствовал хлопки по плечам и спине. Я съел собаку. И, как Маллиган в тот вечер, объелся.
Но хмельные рабочие, чьи деньги (несмотря на возникшую сумятицу) я надежно спрятал в фургоне, меня не отпускали. Они то и дело подносили к моим губам бутылку, и, словно дерущиеся регбисты во время матча, мы постепенно отползли от «Машины» в темноту ночи.
Остановились мы только поддеревом. Издалека доносился гул ярмарки. Откуда-то появились еще две бутылки алкоголя, в котором я признал дешевый спирт домашнего производства. Его разлили по рюмкам из толстого стекла, и один мужчина провел долгий напыщенный ритуал в мою честь: сначала прочитал короткую молитву, затем одним махом опустошил рюмку и вылил несколько капель через плечо, издавая при этом странные звуки: ж-ж… ш-ш… ж-ж… Потом он замер, все еще держа рюмку над плечом. Его товарищи одобрительно закивали и что-то проговорили.
У меня внутри плавала мертвая собака, из желудка поднималась тошнотворная вонь, и всю ночь пить самодельный спирт, разумеется, не входило в мои планы. Однако, судя полипам моих собутыльников, ничего другого мне не оставалось.
Один… два… три… Невнятное бормотание… Глаза слипаются… Еще глоток… ж-ж… ш-ш… ж-ж…
Я огляделся. Во рту горела ледяная жидкость. Мы громко, по-деревенски хохотали. Рюмки снова наполнили спиртом. И снова. И еще раз. Питье перемежалось оживленной беседой и хлопками по спине (в особенности по моей). Пьяные рабочие таращились на меня со смесью удивления и восхищения, пока я продолжал пить их дьявольский напиток. Мы прикончили вторую бутылку, и кто-то вернулся с третьей. К тому времени моя голова уже непроизвольно кивала на резиновой шее, и я тщился прогнать из нее мысли о том, что происходит у меня в желудке. Мое состояние ухудшалось, ноги стали как ватные. Я воображал, будто внутри меня покоится мертвый пес. Личинки и клещи, пригретые желудочным соком, строятся в небольшие разведывательные отряды и расползаются по телу, извиваясь вдоль костей на руках и ногах, прогрызая пальцы и оставляя на сухожилиях липкие выделения. Я видел, как они откладывают яйца на побагровевшей стенке желудка и гложут печень до тех пор, пока она не распадается на части.
Организм меня подводил, однако рюмки наполняли вновь и вновь. Я силился не закрывать глаза и, наоборот, не открывать их, когда очередная порция раздирающей жидкости попадала мне в глотку. Наконец я сдался и под нестройный гогот собутыльников, эхом отдающийся в моей голове, еще раз поднес рюмку к губам.
Проглотив спирт, я уронил голову на плечо и вдруг краем глаза заметил, что сосед вылил всю свою порцию за плечо. Рабочие снова забормотали «ж-ж… ш-ш», и за этими уродливыми звуками я различил, как со всех сторон о землю ударяются капли жидкости. Значит, все это время я пил один.
Маллиган никогда не узнал, при каких обстоятельствах Капитан Смак вышел на пенсию, – к тому времени, как я вернулся домой, мой наставник умер. Своей смертью.
Если бы не собака, я бы успел его повидать. Но, выехав из Польши, я по-прежнему «тек» с обеих сторон и мечтал доверить свое полупрозрачное тело первому же немецкому доктору. Поэтому, когда я узнал новости, со смерти Маллигана прошло уже несколько дней. Я примчался в Дублин и успел погладить его бледное улыбающееся лицо буквально за минуту до того, как опустили крышку гроба.
Восемь носильщиков с великим трудом водрузили его на плечи и положили в катафалк. Машина скрипела и стонала всю дорогу до церкви. Пока священник что-то мрачно бубнил, зачитывая молитвы из черной книжечки, я пытался вообразить маэстро среди разодетых в шелка махараджей и прелестных актрис в Париже, среди шутливых и заискивающих ньюйоркцев. Я вспомнил бесстрастный щелчок пальцев, когда очередная закуска отправлялась в ненасытный рот Майкла; и первую порцию оранжевой жидкости, которую я для него сделал, – ту самую, что стоила мне работы; упоение, с каким Маллиган дразнил публику небылицами, а затем прямо на их глазах повторял те же трюки. Гроб медленно поставили на землю. На нем сияла медная табличка: «Железный Майкл Маллиган».
Каким-то чудом я сдержал слезы и унял дрожь в подбородке. Я знал, что никогда не был достойным преемником славного обжоры. Но все-таки времена изменились, и я делал что мог. Когда комья земли ударились о крышку гроба, мне на ум пришел мучительный вопрос. Я снова и снова спрашивал себя и не мог найти ответа: как бы поступил Маллиган на моем месте? Съел бы он собаку?