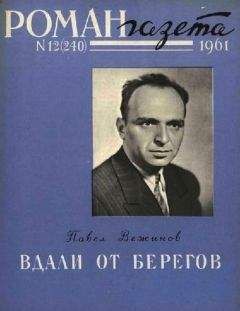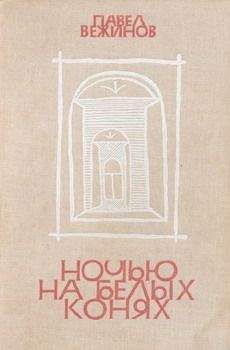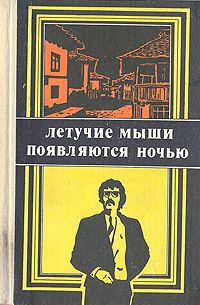Олег Коряков - Дорога без привалов
Быть может, и успокоилась бы взбунтовавшаяся совесть Степана, остыла бы тоска, стерлась временем боль— не получи он этого горького письма.
Третью печь, на которой работал Степан, остановили на ремонт. Было это в его смену, и он пришел домой раньше обычного. Жена еще не возвратилась с работы, на двери висел замок, а в дверную ручку был засунут согнутый пополам конверт. Степан увидел знакомый штамп и незнакомый почерк. Не открывая квартиры, он прочитал письмо и сразу же побежал обратно на завод.
У въезда в цех ему встретилась Домна Огаркова. Накинув на плечи полушубок, она своим широким шагом куда-то спешила. Увидев Степана, остановилась:
— Ну, как дела, герой?
В этих обычных приветливых словах ему послышалась скрытая насмешка.
— Как дела, спрашиваешь? — вызывающе переспросил он. — На вот, прочитай про дела. — Он протянул ей извещение о гибели брата.
— «Пал смертью храбрых», — шепотом повторила Домна, ее рука с листком опустилась, и глаза смотрели Мимо Степана.
— Додержали Криничного у печки! — зло бросил Степан. — Теперь что — еще отговаривать будете? Снова морали станете читать, а?
Домна стояла неподвижно, ничего не говоря, потом полезла в карман, вытащила конверт и протянула Криничному извещение о гибели мужа:
— Почитай и ты, Степан. Хлебни чужого горя каплю…
Она сморщила лицо, но не заплакала.
Степан прочел и отвернулся.
— Вот какие дела, — вздохнув, сказала Домна.
Потом она заговорила спокойно и просто, с таким выражением, как будто убеждала сама себя:
— Каждому — свое. У них место на фронте было, там они и стояли. Криничного к мартену поставили — тут его пост боевой. Везде нелегко. Сталин и другие — те в Кремле. Немцы на Кремль пушки направили, а они с поста не уходят… Степан, слушай-ка! Руководители-то, они ведь тоже на посту… Сердце не терпит? Душа стонет! А ты зажми свое сердце! Слышишь, Степан? Зажми!..
Она заплакала. Зарыдала тяжело, содрогаясь всем телом, и всхлипывала громко и протяжно, совсем по-бабьи.
Степан растерянно посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но только скрипнул зубами и, круто повернувшись, пошел в цех.
Темная, но еще раскаленная громада его мартеновской печи была мертва, безмолвна. Степан долго ходил возле нее, мерно и тяжело ступая по железным плитам пола, и машинист крана осторожно обносил груз сторонкой.
… Домна Михайловна проходила мимо кабинета начальника цеха и остановилась, услышав голос Криничного:
— Так как же, Василий Трофимович, а? Неужто и этого не разрешишь? Добром ведь прошу. И пойми: никто, кроме меня, этого не сделает. Зелено-молодо вокруг.
— Ну, видно, тебя не переспоришь, — ответил начальник цеха. — Будь по-твоему. Пробуй.
И было слышно, как рука хлопнула о руку.
Через два часа бригада Криничного была у печи. Подвозили кирпич. Суетились рабочие, протягивая шланги. Подходили любопытные.
— Рискованное заварил Криничный дело.
— Сгореть не трудно.
— Ну, Степан выдюжит.
— Как бы не задохнулся.
— Начали!
Загудел обложенный льдом вентилятор, нагнетая холодный воздух в печь. Плотный душный зной обжигал горло. Лицо пылало. Дымился на теле мокрый брезент.
— Нет, шалишь, — бормотал Степан, — я свое сделаю…
— Что говоришь, Степан Ефимыч? — обеспокоенно спросил подручный.
— Молоток, говорю, надо. Живее!..
В газете появилась заметка о подвиге сталевара Криничного, положившего начало новому, военному, методу скоростного ремонта мартеновских печей.
Заметки этой Степан не читал. Он всю ночь провел в работе. А наутро опять стоял у пульта мартена.
Ревело и билось о заслонку бешеное пламя. Дрожали неспокойно отсветы на железном полу. Покрасневшими, воспаленными глазами Степан смотрел в огонь, и чудились ему грохот и пламя пушечных залпов…
СЫН ОТЕЧЕСТВА
Говорят, что горе забывается скорее, чем радость. Таково счастливое свойство памяти. И за рыданием все равно придет улыбка. Весна побеждает зиму. Жизнь должна цвести.
Все это так. Все это правильно. Только шрам рваной раны не сгладишь. Друга убитого не вернешь. И если на земле твоей колосятся милые сердцу нивы, дымят родные заводы — как забудешь ты, что земля эта кровью полита, и слезами, — оттого и колосятся хлеба в раздолье полей, оттого и заводы шумят, и жизнь цветет.
Вспомни…
Вспомни, как на пыльных проселках протягивали к тебе руки женщины, объятые горем. Как дымные зарева кутали небо. Гимнастерка расползалась от едкого пота. Друг твой падал и оставался лежать, а ты, спотыкаясь, шел дальше, и западный ветер дул тебе в спину, горький, дымный ветер с запада.
Так ведь было, товарищ Гурьев?
Так.
Ротный писарь-аккуратист вывел четко, по всем правилам: Гурьев Александр Иванович. Рядовой. Беспартийный. 1922. Дер. Лисенки Горьковской области. Рабочий. Подмигнул благосклонно: дескать, не робей, милый. Парень ты вроде славный, солдатом будешь хорошим.
Вот ты и солдат. Трехлинейка на ремне. Шинель на плечах — пехотинская серая матушка.
Враг— на западе, путь — на восток. В сердце горечь. Кругом пожарища. Плач кругом, разруха, смерть.
Под Воронежем писарь против фамилии «Гурьев» в ротном списке зачеркнул слово «беспартийный» и надписал: «ВЛКСМ».
А дорога все еще шла на восток. От Перемышля до Волги — это была хорошая школа. «Университет» начался позднее — в наступлении.
Падал снег. Сквозь мутную пелену виднелись в сугробах избы. Вышли на пригород. Немецкий пулемет ударил по цепи. Ухнули сзади свои орудия. Дымом окутались немецкие позиции, и мутное пламя заметалось над хатами. Перебежками и ползком ты бросил свое отделение на рубеж атаки. Мины прижали к земле. Самая тяжкая тяжесть вдавила тебя в снег, а снег таял от твоего горячего пота. Прильнув к холодной, неласковой защитнице-земле, всем телом вжимаясь в нее, ты чувствовал, как налились свинцом и каменели ноги. Но, заглушая смертный грохот, еле слышным голосом ротный приказал идти в атаку, но лейтенант поднимал уже взвод, и, отталкивая от себя землю, проклиная слабость тела, ты насильно толкнул себя вперед, встал согнувшись, выпрямился и, шагнув, закричал: «За мно-о-й!».
Однако лишь тогда, когда ты перемахнул через вражеские траншеи и увидел себя уже в деревне, когда заметил, как нежно белеет снег под серым, едко пахнущим пороховым налетом, увидел немцев, убегающих к лесу, а навстречу тебе, протягивая руки, метнулась невесть откуда взявшаяся простоволосая, со впалыми щеками русская женщина, — лишь тогда осознал ты, какая сила помогла тебе перешагнуть смерть, и понял, что святы два эти слова: советский солдат. Когда через несколько дней тебе вручали твой первый орден, сияющий золотом орден Отечественной войны I степени, ты в ответ сказал только три слова:
— Служу Советскому Союзу!
Под вечер проходили через Ворошиловград. Были скорбны черные глазницы домов, осиротевших год назад. Тоскливо погромыхивая на ветру, корчилось рваное железо крыш. Посиневший от холода мальчонка кричал «мама!» и плакал, а мама лежала рядом с немецкой пулей в голове. Улица вела на запад.
Все тот же горький, дымный ветер веял над землей. Только теперь он дул тебе в лицо. Родина была за спиной. За тобой была Родина. Вот что было важно. От этого ты чувствовал себя сильным, и воинское мастерство — воля, умноженная на умение и отвагу, — стало твоим кровным делом.
Села… Города… Заводы… Реки… Много рек. Много сел и городов. Разве все упомнишь? Конечно, победителю надо знать, что он отвоевывает, но это можно знать и без географии. И ты знал: честь, свободу, счастье, жизнь.
Впрочем, есть места, названия которых врубаются в память.
Деревня называлась Пакш. Это было под Будапештом. Вы заняли ее ночью. Вся в траншеях, оплетенная колючей проволокой, деревня сопротивлялась упорно. В ней были немцы.
На рассвете, не дав передохнуть после боя, батальонный созвал командиров и коммунистов. Ты к тому времени стал уже членом ВКП(б). Батальонный привел вас к кузнице. И вот что увидели вы там.
В кузнице лежали трупы русских солдат. Вы взглянули на них и поняли, как умирали эти люди. Фашисты калили железо в горне и выжигали у пленных глаза. Затем они клали человека головой на наковальню и били по голове кувалдой, пока голова не сплющивалась. В сарае, что стоял рядом, был колодец. В колодце, почти до краев его, лежали обугленные человеческие кости.
Деревня называлась Пакш.
Говорят, что память имеет счастливое свойство… Не надо! Не нужно оно нам. Пусть память хранит все. Так будет лучше для человечества.
Бойцы скрипели зубами. Позади были изнурительный марш, ночной бой, еще не успели позавтракать, а по ротам шел ропот:
— Долго мы тут стоять будем?
Ненависть жгла сердца…
Орден Славы — свой третий орден — ты получил за Будапештом. Слава о советском человеке уже полонила мир. Отчизна-победительница, раздольная твоя страна, далекая и близкая, прислала тебе орден. И с какой радостью и гордостью, получая его, ты ответил: