Глеб Шульпяков - Цунами
Никакого моря не было.
“Всю ночь гнал Господь море сильным ветром. – Она декламировала из темноты. – И сделалось море сушей, и расступились воды, и были им стеною по правую и левую сторону”.
Отряхнувшись, я пошел следом. Там, где только что лежало море, расстилалась пустыня. Черная и шершавая, как тефлоновая сковорода, твердь.
“Но когда вошло за ними в море войско фараоново, – ее голос удалялся все дальше, – вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников; и стали они мертвыми…”
Только что я видел ее молочный силуэт, и вот он исчез – только песок скрипел под ногами да стучало как сумасшедшее сердце. Стоило мне остановиться, как ночь, густая и плотная, сразу же сдавила тело – так стягивала руки, когда высыхала, глина. И я боялся, что придется сдирать ее вместе с кожей.
“Ну и где море? – раздался внутри голос. – В какой стороне берег?”
Я опустился на дно, обхватил голову.
“Он даже не знает, где его жена!”
“Или он ее выдумал? И никакой жены не было?”
Что-то сморщилось во мне, впало. Осунулось, как плод граната, когда из него высосали сок. Но страх отступил так же внезапно, как появился. Тело обмякло, расслабилось. Я вытер ледяной пот.
Мне представилась совсем другая картина. Что я иду по дну – долго, вслепую. Всю ночь. А на рассвете выхожу на берег с другой стороны моря. В другой стране. В другой жизни.
И что она делает то же самое, просто в другом направлении.
Теперь звезды на небе падали – медленно, как снег. В тишине и темноте морского дна я вдруг понял, что нахожусь в точке, которая станет поворотной в нашей истории. Что с этой минуты наше прошлое и будущее не будут прежними.
…От крошечного камня на песке выстрелила гигантская остроконечная тень.
– Хорошо, что я взяла фонарик!
Оказывается, все это время она стояла рядом.
Скрывая дрожь, я перебрался к ней. Не вставая, обнял ноги. Прижался, пытаясь отыскать удобное место. Со щемящей нежностью понял, что ее коленка совпадает с моей щекой. Умещается в ней, как будто задумывались они вместе. Но потом почему-то распались. Разъединились.
Я стал целовать ее холодные икры. Я думал о том, как мы глупы, полагая, что за много лет сумели выучить друг друга. Но стоит сделать одно движение – и видишь: все не так, как было. За эту неизвестность, недосказанность я любил ее. За то, что она давала мне возможность наделять себя новыми свойствами.
Любила ли она меня? На этот вопрос я никогда не мог ответить точно.
Ее кожа была соленой и пыльной. Шершавой. Левой рукой я проник под юбку. Стянул трусы с левого бедра, потом с правого. Спустил на колени, вдыхая запахи пота и бензина. Она раздвинула, насколько позволяла ткань, ноги.
Фонарик упал на землю и потух. Мы снова исчезли друг для друга.
Теперь она стала для меня плотью, пульсирующей между пальцев.
Превратилась в холодную мякоть, которую я мял правой рукой. В кожу под моими губами. В дыхание, долетавшее сверху.
Массируя и лаская ее тело, я посмотрел на небо, где все так же медленно, как снег, падали звезды. И, раздвинув ягодицы, засунул палец в задний проход.
19
Первый год после свадьбы мы с женой любили сравнивать наше прошлое.
По месяцам, с точностью до праздников и каникул. До улиц, по которым ходили, и кинотеатров, где смотрели “Кинг-Конга” и
“Человека-невидимку”.
Сопоставляя факты, я с удивлением понял, что жизнь, на первый взгляд такая пестрая и хаотичная, состоит из тесных тамбуров, переходов.
Узких коридоров, где мы из года в год топчем одни и те же шкурки от семечек.
“Это как два чертовых колеса, которые вертятся рядом”. – Она делала, как на физкультуре, “мельницу”.
“И ничего не видят”.
Тогда же я поймал себя на чувстве грандиозной утраты. Как будто мы переехали на новую квартиру, а барахло забыли. И начал скучать по вещам, которые нас окружали в юности. Они были неказистыми, эти вещи. Некрасивыми. Но живыми, теплыми. А теперь на смену пришли другие. Яркие и пустые, холодные. Не вызывающие привязанности или приязни.
К тридцати пяти годам мы ясно ощутили чудовищную пустоту, которая образовалась на месте прошлой жизни. Провал, пропасть. И что заполнить ее нечем. Как будто гигантская волна унесла целый мир.
Оставив на берегу яркие бессмысленные обломки.
И нас вместе с ними.
Страшно сказать, но даже города, в котором мы выросли, не осталось.
Тогда в каком-то веселом угаре мы стали составлять список исчезнувших предметов. Вещей, до которых так часто дотрагивались наши руки. Нам казалось важным воскресить тот мир. Зафиксировать, пока из пальцев не ушла последняя тактильная память. Вернуть часть тепла, которое каждый из нас отдает вещам в детстве. Заполнить пустоту, которая нас сжигала.
Мы занесли в список молоко в треугольных пакетах и стеклянные призмы с краниками.
Стакан с водой, где лежала ложка для соли, – размешивать в томатном соке.
Деревянные ящики из-под яблок – в кольцах стружки.
Я вспомнил оберточную бумагу с опилками – ее сворачивали в конус для крупы или песка.
Жена – шоколадное масло плитой размером с детскую могилку.
Разменные автоматы с мелочью в метро.
Кефирные бутылки с фольговой крышечкой и ящики из проволоки, куда их складывали.
Затянутые коричневой, с пузырями, клеенкой школьные доски.
Самодельные кляссеры, бывшие книги бухучета.
Кальку, на которой пекли шарлотку.
В юности жена выписывала журнал “Кругозор” с голубенькими пластинками.
Я вспомнил свои виниловые сокровища – “Вчера”, “Через вселенную”,
“Пусть будет так”.
Бобины с пленкой для катушечных магнитофонов.
Сами магнитофоны – “Маяк”, “Астра”, “Нота”, “Яуза”.
Солдатики – пластмассовые витязи, тачанка. И особенно зеленого лежачего снайпера.
Всплыла из памяти черная банка от монпансье, ее потом приспосабливали под карандаши.
Железный кошелек для мелочи – с ячейками, чтобы загонять в них монеты.
Синяя шерстяная буденовка со звездой.
Жестяные коробочки из-под зубного порошка, где потом хранились шурупы и гайки.
Пластиковый шеврон на рукаве школьной формы, который разрисовывали и отрывали в драках. Да и сама школьная форма.
Тяжелый и гладкий, как снаряд, сифон.
Промокашки с волнистым обрезом.
Деревянные прищепки, вечно пачкающие белье.
Шелковая авоська.
Эмалированные бидоны на три литра, с ними стояли в очередь к молочной бочке.
Кепка от солнца, тряпичная, с синим пластиковым козырьком, обычно треснувшим посередине.
Кассовый аппарат в городских автобусах, куда бросался пятак, и следовало отмотать билетик.
Кое-какие вещи для нашего списка мы встречали на барахолках. У друзей, въехавших в родительские квартиры, но еще не сделавших там ремонт. На витринах провинциальных магазинов. Натыкаясь на брошенные, никому не нужные предметы из собственного прошлого, я чувствовал обидную несправедливость. Как будто у пожилого человека расстегнуты брюки, а сказать ему об этом никто не может.
И неожиданно для себя стал скупать их.
Брал не торгуясь, где видел – на ярмарках, рынках. У старушек.
Подбирал на помойках. Вывозил от приятелей, говоря, что ищу старые предметы для театральной постановки. И те с облегчением избавлялись от родительского хлама, выбрасывать который мешала совесть.
Или память, не знаю.
Нужно прекратить их физическое существование, подсказывал внутренний голос.
“Ты должен совершить обряд погребения”.
“Уничтожить форму, которая давно лишилась смысла”.
“Освободиться от прошлого”.
Одну за другой я выносил вещи за дом, на пустырь. Сваливал у старой голубятни, обливал бензином. Плавясь в огне, старые вентиляторы превращались в скульптуры Ольденбурга. Рассыпалась в прах синяя олимпийка, оставляя на земле черный позвоночник молнии.
Чем больше я уничтожал, тем ярче и величественней сияли вещи в моем сознании. В моей памяти. Тепло, которое они/ /излучали по ту сторону реальности, казалось постоянным, вечным. И никакая реальность/ /не могла заменить его магического свечения.
20
Сколько времени мы провели на дне? Долго искали на берегу мотороллер
– пока она не присела по нужде и не увидела, как блестит в кустах подножка.
Стала делать фонариком знаки.
– Сюда нельзя, – услышал, приближаясь, смущенный голос. Двумя движениями натянула трусы, опустила юбку. И я понял, что эти интимные бытовые звуки возбуждают меня еще больше.
Стали толкать мотороллер по песку. Наконец вышли на тропинку и, вихляясь, тронулись. На бетонке левой рукой жена обхватила за живот, правую засунула мне в шорты. Я прикинул, сколько осталось до нормальной кровати.
– Будем дома минут через двадцать, – бросил через плечо.
Ночная дорога огибала невидимые холмы, то поднимаясь в гору, то спускаясь в туманные низины. За время на острове я выучился держать скорость, ехали ровно шестьдесят километров. Из-за лысых протекторов трасса почти не чувствовалась. Машина шла как по маслу. Как по воздуху. Просто скользила в пустоте, заполненной ровным гулом.


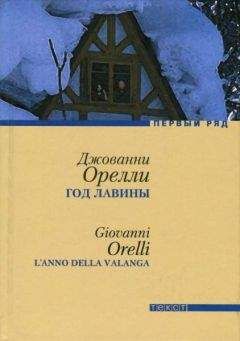
![Морли Каллаган - Подвенечное платье [Сборник рассказов]](/uploads/posts/books/237639/237639.jpg)
![Морли Каллаган - Подвенечное платье [Сборник рассказов]](/uploads/posts/books/237716/237716.jpg)