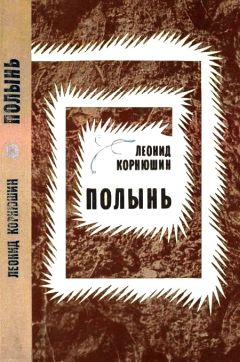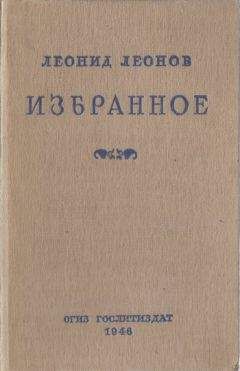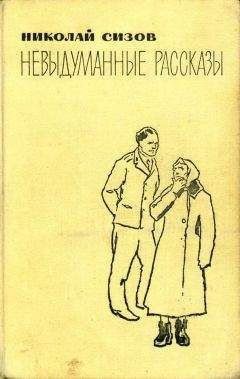Леонид Корнюшин - Полынь
— Уйди же, паразит.
У Ивана в глазах запрыгали искры.
— Я не гулящая. Коли жениться хошь, коли по-хорошему… так я подумаю. — А так не хулигань.
Иван отошел к порогу и сел впотьмах на что-то мягкое.
Шура все еще прижималась к стене, смутно и загадочно белея лицом. Ивану казалось, что она смеется; он прислушался: билось только его сердце и пилил сухо сверчок за печью.
— Ладно, не бойся, — сказал он серьезно. — Мы тогда свадьбу справим. У меня чекуха спирта имеется. Хорошо?
— Свадьба ж другое дело, — отозвалась. — И расписка.
Иван лег на разостланную шинель.
Луна выплыла из туч, круглая, ясная, добрая, заглянула в окошко, и в избе посветлело сразу.
Утром разбудили его воробьи, чирикавшие за стеной. Около печи слышались шипенье и тихие голоса. Иван глянул на кровать, вспомнил, что было вечером, и быстро оделся.
Печь уже была истоплена. Мария Кузьминична и Шура ждали его. На столе парил чугунок картошки, лежали ломтики хлеба, огурцы в миске.
Ребенок, распеленатый, видимо покормленный, бусинками глаз смотрел на Ивана.
— Ух какой бутуз! — сказал Иван и, большой, нескладный, остановившись над этим крохотным человечком, потрогал его пальчики.
Шура, покраснев, отвернулась.
— Иди умойся, Иван, — сказала Мария Кузьминична, вопросительно посмотрев на нее. — Полей ему, Шур, — добавила она.
В сенцах, протекая сквозь щели, бились пыльные золотые дорожки, под стеной квохтала курица, и было хорошо, в самом деле как дома.
Пробежал по сеням в избу Митька и с обычным, прижившимся выражением испуга на лице открыл дверь.
За завтраком Мария Кузьминична нет-нет украдкой бросала взгляд то на Шуру, то на Ивана и все угощала их, вздыхая:
— Ешьте, картошки еще много.
Митька положил сушить на загнетку мокрые ботинки и, поеживаясь, сверкая глазами, уписывал за обе щеки. Успел, видимо, исколесить все село.
Когда кончили еду, Иван поблагодарил хозяйку и сказал Шуре:
— Пошли, на село глянем.
— Я постираю. Белье на нас, глянь, все грязное.
Иван подумал с теплотой: «Семья вроде у меня».
Шура у порога шепнула ему в ухо:
— Мы тут останемся?
— Будет белка, а свисток найдем, — загадочно пообещал Иван.
Он вышел с Митькой на улицу. Капель уже цокала вовсю, в лунках сизо пенилась вода, ветер морщинил синие лужи, в темных голых липах стоял оглушающий вороний крик.
Тощий бесхвостый петушишка орал напропалую на клетке дров. Плетни, срубы хат, мост через овраг посреди села — все слюдянисто сверкало, точно обмазали черным лаком. Сквозь зыбисто морщинящую воду дорога проглядывала голубизной крепко впаянного в землю льда. С пригорка в овраг бешено ярилась вода, чисто звенели, сшибаясь друг с другом, мелкие льдинки.
«За ночь все сломало!» — Иван огляделся.
Свернул к скотному двору, увязшему в огромных кучах навоза. Ворота были распахнуты — оттуда вместе с сивым паром летел голодный коровий рев.
Картина была тоскливая: коров привязали, чтоб не упали совсем, — бескормица…
У одной, рыжей, шершавый язык вывалился наружу, по белому пятачку на лбу сочились падающие сквозь пыльное оконце солнечные брызги, страшно сутулилась обтянутая кожей спина, с немым укором смотрели лиловые глаза. Подошел старик в шубейке.
— Глаза не глядят, — махнул он рукой.
Солнце ненасытно долизывало снег, обнажавшаяся бурая земля источала кисловатый запах. Куст вербы, залитый водой, нырял, как раскоряченный поплавок, — был уже весь унизан сережками. За стеной грызли измочаленное дерево и вздыхали коровы. Из скотного двора вышел наружу бык. Тотчас на его острую, обтянутую бурой шерстью хребтину села сорока, начала что-то выклевывать, но он безразлично и понуро стоял как живой памятник военному лихолетью. На могучих боках страшно выпирали ребра, дрожали мелко ноги, слезились глаза.
— Укатали, вишь, сивку… — проговорил старик, дивясь то ли тому, что худоба одолела такую матерую силищу, то ли тому, что бык еще мог жить на белом свете и смотреть на красное, словно облитое кровью, солнце.
XVIIIВ старом амбаре ждала другая беда. Когда Иван ступил на крыльцо, ему навстречу из двери выскочила маленькая женщина с распущенными волосами — платок комком у нее бился на затылке, — крикнула безумно:
— Ох, выручайте семена!
В теплой полутьме Иван ткнулся в тугой бабий живот. Кто-то пронзительно закричал в самое ухо:
— Там дырка: забить надо!
Тотчас послышалось:
— Анисья, топор дай!
— Мешки тяните, бабы! Рожь плывет!
В один миг он определил: полая вода проломила подшившую дощатую стенку около пола и с клекотом широкой струей обрушилась на левую часть закрома.
Сунули ему в руки топор. Несколькими ударами он разбил пустую пыльную загородку, кинул через плечо:
— Ищите гвозди!
Митька, вертевшийся волчком между ног, где-то нашел целую горсть, ссыпал их в карман Ивановой шинели.
— Ложитесь сами, запружайте, пока я одну сторону прибью.
Трое полезли, но захлебнулись; Иван оттащил их, выругался и стал бить гвозди в доску. Перегороженная вода выхлестывала по бокам, особенно справа, где еще оставалась широкая лазейка — ее загораживала спиной женщина; другая прижимала к щели снятый с себя полушубок, вся мелко, ознобко тряслась.
Вскидывая топор, Иван вбивал гвозди — доски пластались одна к другой, легла и последняя на место, которое собой загораживала женщина. Тонкими струйками вода теперь сочилась лишь в щели на стыках, а там, под стеной, сипела и ухала, как звереныш.
Распоров ножом мешковину, Иван рассовал в руки женщин полоски ряднины, приказал:
— Шпаклюйте щели.
Слышались натуженное сопение, дыхание разинутых ртов и чей-то, должно простуженный, хрип и кашель.
Работали молча. Иван пощупал с левого края зерно: оно было мокрое, а дальше, к середине закрома, сухо и звонко текло в ладонях, он вжал в него потное лицо, ощутил вплотную сладкий аромат хлеба и, наполняясь радостью, сказал:
— Которое в левой стороне, надо немедля пересушить. Выгребайте его оттуда.
Он шагнул наружу из душной хлебной сухости. Женщины молча грудились в дверях амбара. Одна крикнула вслед:
— Солдат, ты откуда?
Он не ответил, пошел, стиснув кулаки, по улице, удивляясь себе: чем больше выпадало перетрясок, тем тверже становился он сам.
«Делишки тут махровые. Мужчины, какие есть, наверно, в руководстве штаны трут, плюнули на все», — подумал невесело.
Он был мокрый, деятельно возбужденный, в руках тянуче ныл зуд — просились еще работать. На колодце достал бадью воды девчонке, напился сам с удовольствием, вытер платком лицо. «Жизнь наладить, окромя нас, некому».
Митька радостно крутился около.
— Чего к нам пристал?
— Ты добрый, — не моргнув, сказал Митька. — Пойдем на речку?
— Нет, в хату, — и подумал: «Постричь его надо».
В избе Мария Кузьминична говорила:
— Люди обозлились: Микешин везде имеет свою руку. А жизнь вон видите — забот по горло. На меня взъелся: правду сказала, что ворует с дружками и брательниками. Из совхоза грозит выгнать.
— Руки короткие, — Иван звякнул солдатской алюминиевой ложкой. — Обломаем!
— Людей преследует. Корит оккупацией. Не доверяет. «С немцами тут путались». А через нас восемь разов фронт переходил. Люди и так забиты, что же это? Ведь он, морда, воевал, в погонах капитана к нам приехал. С орденами. А себе дом отгрохал за совхозные деньги! — уже разгоряченно выкрикивала подрумяненная волнением Мария Кузьминична.
На печи утробно закашлялся дед, пошуршал шубой по вытертым кирпичам, из-за трубы высунул комок свалявшейся бороды, прохрипел:
— Полегше, Марья, будет-то. Были у нас в руководстве и другие. Ты знаешь. Ему мурло свернут — дай мужикам вернуться!
— Вертаться вроде бы мало кому, дед.
— Да, добрых мужиков уложили. Ну погоди, Федор Масленников вернется: этот отовсюду дерьмо вытряхнет. Ишо кое-кто подмогнет.
— Подможем, — сказал Иван и подумал: «Не на словах доказывать надо — на деле».
Он встал, надел шинель, начал яростно застегивать крючки и уже из сенцев упрямо прогрохотал:
— Где Микешин живет?
— Увидишь в конце деревни. У него дворец, — отозвалась удивленная Мария Кузьминична.
Они с Шурой припали к окошку, видели, как шагал он по расхлюстанной грязи — длиннющий, руки в карманы, полы шинели откинуты ветром — мимо землянок, хибар, к дому под железом.
Когда подошел к аккуратному крашеному заборчику — поразила пронзительная до крика картина. Три женщины в отрепье, худые, плоские, с засеревшими губами, толкались возле калитки; одна, лет пятидесяти, шмыгала носом, слезинка стыла на впалой щеке, обложенной пятнами нездорового румянца.