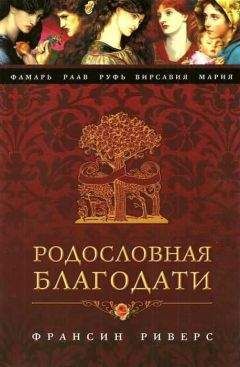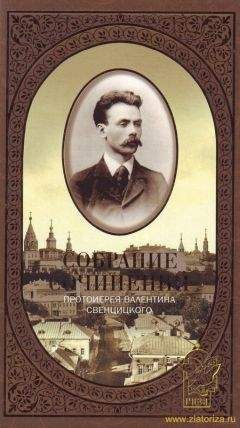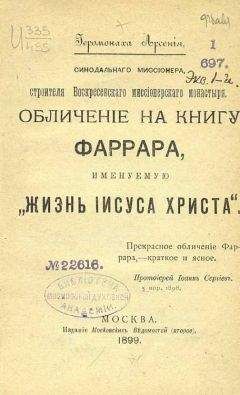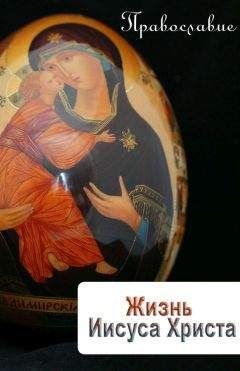Марина Красуля - Живи, Мария!
Короче, вызвался Иван в лес идти. Один, говорит, пойду, скрытно.
Сделал Блохин „засидку“ грамотно: размазал черты12, как у стрелков полагается, чтоб его самого отследить невозможно было, отходы приготовил, начал изучать повадки „зверя“. Трое суток караулил. Засек-таки позицию немца. Задержал дыхание и нажал на курок. Глянул в прицел: полморды снесло фашисту, всю нижнюю часть лица срезало – смертельная рана.
Довольный собою, Иван лукаво улыбнулся и встал во весь рост. В эту секунду агония отпустила немца на мгновение, очнулся, поганый, и выстрелил Ивану в грудь.
Одна пуля. Всего одна…
Стрельнул фриц и сам сдох.
На пятый день мы поняли, что снайпера-фашиста больше нет. Иван все не возвращался. Тогда медсестры, что от дежурства свободные были, пошли в лес искать. Холод стоял бешеный, но мы все искали и искали…
Я присела на сугроб и вижу: каблук сапога и, кажись, приклад… Это я на засыпанного снегом Ивана села. Вскрикнула. Девчата прибежали, откопали…
Он лежал на правом боку, к его ладони примерзла эта карточка. Я думаю, на ней – жена и дети. Глаза были открыты, смотрели на фото, так он прощался с вами.
Иван умер не сразу. Сколько лежал, не знаю… Похоже, замерз или истек кровью.
Эту карточку я прибрала себе, сама не знаю почему. И с тех пор мучаюсь.
Конечно, мы сообщили кому следует и тело похоронили, не волнуйтесь.
Ваш Иван – настоящий герой. Говорили, будто уйму врагов побил, может, даже сто. Так люди говорили, я верю.
Иван вас горячо любил, это точно…
С уважением Даша Запара».
Письмо, застрелившее надежду… насмерть…
Глава 22
Не ходила Маруся в церковь. Незнамо почему… Верить – верила. А ходить – не вспомню. Разве в детстве?
Она с Иваном когда-то прочитала у Толстого: «С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, только с глазу на глаз начинаются настоящие отношения; только когда другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя».
Поняла не сразу, просила объяснить. Долго и мучительно думала, размышляла. Запало в душу…
Хотя, может, и другая какая причина. Перед каждой Пасхой старательно выбеливала не только весь дом изнутри, но и фасад. Пекла пироги, куличи, яйца красила луковой шелухой. Только икону из-под тюфяка никогда никому не показывала…
Глава 23
Случилась с Марусей мечта. Самая настоящая. Для себя. Простая и теплая.
Увидала однажды на незнакомке в жилконторе белый оренбургский платок. Не платок, а пуховое кружево – сама нежность, в обручальное кольцо без запинки проскользнет. Такой белый, такой белый – беленей беленого – аж в глазах резь! Дородная женщина сняла с головы воздушную легкую паутинку и небрежно откинула на спинку стула. Шалька колыхнулась облаком и замерла.
Маруся прямо-таки заболела. Так захотелось ей в прохладу повязывать это чудо, так захотелось, что сны зачастили один краше другого.
Во сне тот платочек был ее собственным. Рисунок на полотне тонкой вязки виделся причудливый, нереальный, словно изморозь на стекле. И будто сушит она тот платок осторожно, на специальной раме со стальными гвоздиками. И будто глядится она в трельяж и сокровище то на голову повязывает, прилаживает, поправляет. Сложит треугольником, широкий край в два оборота рубчиком свернет, а углы шарфом вокруг шеи оборачивает. И такая милая Маруся в отражении получается, такая свежая, как в молодые годы, в годы безмятежные… И глаза будто снова фиалковой силой сияют.
Вот такая охота приключилась, охота пуще неволи!
Начала откладывать деньги по копеечке. Целый год копила и мечту свою нежила, холила, лелеяла. Наконец сумма собралась приличная, и она отправилась за покупкой. Но не тут-то было: раз пришла – не нашла, два пришла – не нашла… Платков полным-полно, да все серыми, тяжелыми, грустными торгуют – совсем не то. А заветного – нету, как и не было…
И вот однажды, дело было в субботу, сыпал мелкий противный дождичек, истоптала по жиже весь рынок, осмотрела все ряды-прилавки и, отчаявшись, встала посреди базарной площади. Стоит сусликом – лапки на пузе, крутит головой по сторонам, думает: «Гляну в последний раз и уйду – знать, не судьба!»
И тут цепляет ее черный цыганский взгляд. Идет молодуха вразвалочку прямо на Марусю. Юбки аляпистые в пол, волосы нечесаные из-под мятой косынки, фуфайка драная, зуб золотой. Смотрит в упор и глазом наглым, бездонным – хлоп! хлоп! – подмигивает. А из-за пазухи торчит «заячье ухо» – край того самого ажурного платка цвета чистого снега, какой Маня столько дней ищет.
Мечтательница замерла: он!
Цыганка махнула заляпанным грязью подлом, подобрала юбки, резко развернулась и быстрым шагом направилась прочь с базара в сторону железнодорожной насыпи. Маня за ней. Та отбежит, поворотится, поманит и дальше чешет. Маня за ней вприпрыжку, как котька за фантиком.
Вот место безлюдное. Похолодало…
Черноокая остановилась, выпятила грудь с «ушком» из-за пазухи, стоит, вихляется, нахально улыбается.
Маруся, запыхавшись:
– За сколько шаль отдашь?
– Недорого-недешево. Чтоб тебе не жаль и мне не обида! – проговорила нараспев. Голос глубокий, медовый.
– Возьми, сколько есть. Вот! – Маня протянула деньги, сто раз считаные-пересчитаные, аккуратно сложенные стопкой.
Цыганка ловко хлопнула пачкой по своему локтю и сунула деньги назад, в Манину ладонь:
– Мало! Не отдам! – и как сиганет по шпалам! Перепрыгнула овраг и, не оборачиваясь, замелькала юбками вдалеке…
Такой прыти Маня не ждала. А когда очнулась, разглядела то, что в руках осталось. Кукла! Сверху – деньга, снизу – деньга, посередке – резаные газеты.
Задохнулась, но не заплакала. Забурлило в голове. Поплелась в сторону дома, беспрерывно чертыхаясь и бормоча: «Вот и отхватила куцему хвост. В кои веки удалось коту с печки прыгнуть, и то лапки отшиб. Так тебе, дурехе, и надыть! Так и надыть! За какого дьявола бежала?!. Физкультурница недобитая! И не споткнулась же! Вот же ж дура-дура, бестолковая… Деньги что? Не жалко. Что деньги?!. Наработаю… Мечту жалко… Ну вот чаво, чаво платок энтот понадобился?! Чаво-чаво? Чавокалка с ушами. Охоча жаба до орехов, токма зубов нету! Плоха, что ль, серая обнова? Не-е, ей, прынцессе, белы тенеты подавай. Э-эх…»
Шла, шла, сокрушалась, сбилась с пути, до курмыша дошла: тупик не тупик, закуток. Стемнело почти. Луна обгрызенная вылезла, криво светит. Видит Маня: впереди два силуэта маячат – мужик и баба, вроде ругаются. Пригляделась: никак ее знакомая цыганка со своим хахалем. Орут матерно.
А мужик возьми да и воткни кулаком в харю – зубы лязгнули, космы мотнулись. А он, гад, в раж вошел и давай оховячивать воровку. Тело в шабалах13 с шумом повалилось на землю, а громила его – ногами, ногами.
Первая мысль, что юркнула в Манину голову: «Бог-то шельму метит!» И тут же наша кулемушка устыдилась. Мужичара зверски топтал уже вялое тело товарки. Забьет!
Мимо пройти? Не на Марусин это характер! Подняла дрын, приметилась и со всей мощи звезданула цыгану поперек хребта. Тот крякнул и осел. Манька схватила бабенку за шкирку и во всю прыть вжарила по проулку, волоча за собой пострадавшую.
Оказавшись на безопасном расстоянии, женщины остановились, отдышались. Маруся, не взглянув на стонущую, молча развернулась и пошла к себе домой, та за ней. Прихрамывает, кровью сплевывает, не отстает.
Маня через плечо:
– Чаво нада? Жива, и ладно. Иди к богу в рай, – сказала просто, без ехидства, без обиды.
– Жубы вышиб… шволота… – цыганка полезла пальцами в рот. – Рожа огнем горит.
– Заслужила, видать!
– Не поймешь!
– Куда мне!…
– Шбежала. Иш табора шбежала… муш он мне… Вше одно: поймает – жабьет!
– Такое жабьё и забить не грех!
– Жлишься? Твоя правда… Жачем тогда шпашала? – вздохнула шумно и села в грязь.
Мысли у Маруси растопырились и залипли. Погань же, а вот ведь – жалко…
– Пойдем ко мне. Обмоешься, пугало.
Марь-Лексевна встретила без упрека, только засопела тревожно. Рядом с цыганами почему-то всегда тревожно, хотя понятно почему.
А как чаю напились, постелили гостье на полу. Беззубая уж вроде улеглась, да как соскочит, метнула на Марусю прищуренный взгляд:
– Иди щуда! Погадаю. Левую ладошку давай. Ну! Давай, говорю. Вшю правду шкажу.
Маруся покорно протянула руку. Та внимательно рассматривала натруженную ладонь, вертела ее и так и этак. Шамкала больным ртом, причмокивала, а потом и говорит:
– Трудная твоя шудьба, штрашная… Ничего, ничего… Шкоро муж вернетша. Живой, ждоровый. Третий год тебя ищет. Любит швою Маньку больше жижни… Шкоро найдет. Жди.
Маруся горько усмехнулась:
– Брехать – не пахать! На войне он убитый в сорок четвертом. Ложись, морда бесстыжая, спать, неча душу травить.
– Верь, не верь – дело хожяйское. А только придет твой мужик, нежданно-негаданно жаявится. Вот увидишь!