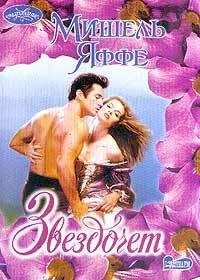Рамон Майрата - Звездочет
Когда Звездочет начинает играть, играть по-настоящему, публике слышится будто звон разбитого стекла, и тогда на мгновение воцаряется тишина, но тут же музыка снова распластывается между деловыми разговорами, как начинка между двумя кусками хлеба в сандвиче. Ему обидно не за себя, а за Фалью. Он продолжает считать, что играет на самом деле не кто иной, как Фалья, и что его гитара — нечто вроде раковины, которую достаточно приставить к уху, чтоб услышать тайный урок, нашептываемый учителем. Только женщина с персиковыми волосами сидит как в гипнозе, вяло выпивая один «порто-флип» за другим.
Он замечает, что Фридрих впивается острыми лезвиями полуприкрытых глаз в лопатки этой прекрасной женщины, которые шевелятся, как крылья, в вырезе ее яркого платья, когда она наклоняется над рюмкой. Заметно, что ему не хочется смотреть на нее, но он не может оторваться. На лице его странное отчаяние, будто он столкнулся с задачкой, для которой не находит решения. Какую загадку видит он в прекрасной и пьяной незнакомке? Фридриху примерно столько же лет, как и ему, и Звездочет подозревает, что они разделяют одно и то же чувство одержимости и одновременно подавленности в волнующем присутствии женщин с их обещанием еще не изведанной любви.
Звездочет думает, что поскольку у них обоих нет матерей, то их сближает одинаковое смятение перед женственностью, обрекающее их на похожие чувства. И тем не менее нельзя сказать, чтобы они подружились. Звездочету хотелось бы вдыхать рядом с Фридрихом чистый воздух улиц — подальше от террасы «Атлантики». Но тот всегда ухитряется найти убедительную отговорку, чтобы не принимать его приглашений и не выходить на улицу.
Странный юноша. Совершенно не похож на мальчишек, друзей Звездочета. Он садится на сцене перед ним, спрятавшись среди скрипачей, скукожившись, вжавшись в спинку стула, почти погребенный в его недрах. Хочет быть тенью. Когда он играет на скрипке, рукав фрака прикрывает ему лицо, и Звездочет привык наблюдать его девичий профиль, перечеркнутый смычком, который рассекает его бледные щеки, его крупный нос, торчащий между бесхитростным наивным ртом и меланхоличным светлым локоном, сумрачным и блестящим, как капля золота. Его тела он не видит, но догадывается, что под фраком оно так же тонко, как душа, и, уж во всяком случае, очень отлично от грубых тел его кадисских приятелей. Глядя на Фридриха, он ощущает головокружение, будто заглядывает в устье темного колодца. «Должно быть, другая раса», — говорит себе Звездочет, но объяснение это не очень его убеждает.
Иногда Фридрих поглядывает на своего отца, дирижера, порой — на дверь, будто ему хочется уйти. Редко глаза его останавливаются на публике — разве что на женщине с персиковыми волосами. И уже совсем редко его взгляд пересекается со взглядом Звездочета. Как было, например, сегодня на закате, когда полыхающая пурпуром мантия солнца расстилалась по морю и на террасе отеля «Атлантика» несколько голосов на разных языках почти хором выражали восторг по поводу этого прекраснейшего мгновения дня. Фридрих перестает наблюдать за женщиной с персиковыми волосами, наклоняется вперед и секунду смотрит на Звездочета. Их взгляды сталкиваются. Глаза Фридриха поменяли цвет, должно быть из-за заката, и огонь его зрачков затухает вместе с солнцем. Морщинки вокруг его глаз напрягаются, будто телеграфные провода. Фридрих чувствует себя застигнутым врасплох. Он снова переводит взгляд на женщину с персиковыми волосами, хотя ясно, что смотрит на нее не видя. Затем вдруг опять вперяется глазами в лицо Звездочета, как бы приняв твердое решение не тушеваться, но тут же краснеет, и огоньки его зрачков исчезают, остаются лишь глубокие, темные и непроницаемые глазные впадины. А в это время кто-то запоздало повторяет с заметным немецким акцентом: «О да! Это самый прекрасный миг дня!»
Этот недавно прибывший человек — военный, хотя и без мундира, вооруженный, хотя и без кобуры. Достаточно его мощного туловища и его бедер автоматчика, чтоб вызвать возбуждение на террасе «Атлантики» и череду стратегических перемещений в публике.
— C'est la guerre, — неожиданно по-французски бормочет Абрахам Хильда, но la guerre пересекает в его мозгу Пиренеи, и он продолжает уже по-испански: — Война, которая надвигается на «Атлантику» и на весь мир, занимает позиции.
Фридрих, как кошка, свернулся на стуле. Он боится, нет сомнений. Двадцать евреев трепещут, но они обязаны продолжать играть. Музыка ускоряет свой темп в соответствии со стуком их испуганных сердец. Человек выходит на середину танцплощадки и начинает тяжеловесно танцевать, как камень, который катится во время землетрясения.
— «Лили Марлен»! — приказывает он. И музыканты повинуются.
Янтарная проститутка, прозрачная и голодная, заступает ему путь и поднимает худую руку: «Вива Гитлер! Нет ли у вас табачку, моя пушечка?» Звездочет узнает человека, которого извергла из своего нутра одной почти забытой ночью подводная лодка. А между тем аккорды «Лили Марлен» хрустят, как пустые раковые панцири под ногами посетителей в какой-нибудь грязной таверне.
Официанты не успевают устроить за столики всех, кто хочет переселиться поближе к незримому полю битвы. Публика распадается на две группы. Самая многочисленная, почти единодушная, — те, кто поспешили занять места поближе к столику, предположительно оккупированному вновь прибывшим. Это командный пост. А напротив них, в одиночестве, — женщина с персиковыми волосами, которая, выпрямившись как копье, просит новый «порто-флип», но никто не торопится его принести. По соседству с ней пристраивается шестидесятилетний маркиз из Хереса, сухощавый озорник, нечто среднее между пергаментом и вафлей, со сладким взглядом и развинченными жестами. Маркиз де Сотавенто отряхивается от золотой пыльцы своей легкомысленной и причудливой жизни и намеревается начать сопротивление, приняв сторону женщины с персиковыми волосами.
— Oh, Moncho dear… may I have just a Porto-Flip? [3]
Маркиз потрясает тростью и кричит официанту:
— Эй, малый! Принеси-ка два «порто-флипа»! Превосходный эликсир!
— О, Мончо, dear, и для меня два!
На мгновение все замолкают, но тут же снова разом начинают говорить:
— Сотавенто переходит к союзникам.
— Он втюрился, старый пень.
— У него английские корни, как у многих виноделов.
Нейтральных немного. Народец средней руки с минуты на минуту должен будет покинуть поле битвы, потому что уже раздают меню ужина, а они не могут позволить себе расточительства. Филе камбалы — семь песет. Шатобриан по-бернски — двенадцать. Паштет из утиной печени с трюфелями, лангуста «Кардинал», цыпленок с фермы и крепе «Сусанна» — тридцать пять. Они должны удовлетвориться вечерним аперитивом, уже отправленным в желудки, но им очень не хочется уходить. Снаружи их ждет паек: 50 граммов сала, маниока и хлеб, отдающие потом очередей.
— С «Шато д'Икем» из погребка.
— Но так только здесь внутри. Тут-то всегда едят белый хлеб.
Желтая высохшая женская рука с ногтями, выкрашенными в бледно-фиолетовый цвет, щупает последнюю оливку своего аперитива.
— Испорченная. Я скажу официанту, чтоб мне ее заменили.
Через некоторое время чавканье жующих челюстей завладевает террасой. Только женщина, попросившая оливку, смакует ее теперь, делая паузы, с закрытыми глазами, полностью сосредоточившись на зеленой мякоти, которая тает, наполняя блаженством вкусовые сосочки ее языка.
Музыкантам невыносимо видеть жующих и очень трудно сдерживать слюну. Особенно духовым. Трубач задыхается: пустой желудок переполнил его рот слюной. К счастью, публика не перестает разговаривать, даже с набитыми ртами. С тех пор как появился человек в кожаном пальто — естественно, без пальто, — тема разговоров изменилась. Теперь это война; одни гадания.
— Ты поздравил его с оккупацией Бельгии? Поторопись. Дальше будет Франция.
— Я не теряю времени, болтая о баталиях, если можно поговорить о делах. То, что Винтер ищет в Испании, — это вольфрам. Он считает его стратегическим материалом и хочет подарить первую партию фюреру на день рождения. Все остальное — слухи.
— Так вот, похоже, англичане бегут в беспорядке к Дюнкерку. Скоро у них останется в Европе только Гибралтар.
— Видишь? Это хорошая тема для разговоров с Винтером. И выгодная. Он платит из чистого каприза за любую информацию о Гибралтаре, включая туристическую.
— Туристическую? Как мило! До сих пор мне не приходило в голову, что война — это вид туризма. Но если окажется, что французское войско тоже неуправляемо, немцы без сопротивления дойдут до Парижа. Туристическая прогулка.
— Не валяй дурака. Я хочу сказать, что Винтеру до смерти хочется поковыряться в земле. Он даже надеется, что кто-нибудь проанализирует органические отложения. Вот увидишь. Остатки ракушек, рассыпавшиеся кости доисторических животных — все то, в чем англичане копают свою линию обороны.