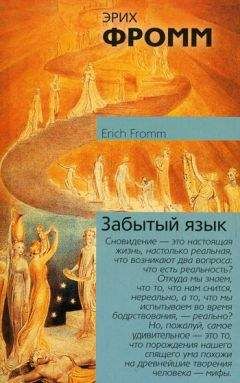Эрих Кош - Избранное
Только я вошел в свою комнату и сел, как зазвонил телефон.
— Говорит Йованка Самарджич! — послышался женский голос.
— Слушаю!
— Йоша Маркова!.. Не помнишь? Эта маленькая…
— Ба! — вспомнил я. «Эта маленькая Йоша Маркова!» — Откуда ты взялась, Йоша?
Она сказала, что приехала по делам. Мы условились встретиться вечером. У меня были еще кое-какие дела в городе, и я ушел из канцелярии.
Улица от Теразий до самой Славии разрыта. Белград оправляется после войны. Большие бетонные блоки громоздятся, как баррикады, возле домов, оставляя узкую дорожку для прохожих. Улица гудит от пневматических отбойных молотков, которые буравят старый бетон; пыль покрывает деревья и тротуары. Жара страшная, людской муравейник вздымает облака пыли и шумит.
Я свернул в одну из боковых улиц. Шум стих, будто за моей спиной кто-то затворил дверь на главную улицу. Мне вспомнилась Йоша Маркова… «Эта маленькая Йоша Маркова». «По какому делу она приехала сюда?» — подумал я и пошел медленнее…
Когда штаб отряда разместился в Еловом Долу, Йоше могло быть самое большее четырнадцать-пятнадцать лет. Она ходила в зеленой итальянской солдатской шинели, которая была слишком широка для нее и потому застегивалась на пуговицу, пришитую на спине, а в талии перетягивалась веревкой. Рукава были подвернуты до локтей, а подол шинели доходил до лодыжек. Обычно Йоша ходила с непокрытой головой. Волосы были неровно подрезаны ножницами для стрижки овец. На босых ногах болтались солдатские башмаки с отвалившимися подметками, перевязанные проволокой и такие огромные, что не годились никому в доме. Кроме этой шапки волос и нескладной одежды, в ней поражали два больших черных глаза, удивленных и любопытных, недоверчивых и сторожких.
В Еловом Долу было всего два дома: тот, что получше, был каменный, а другой — попросту бревенчатая хибарка, обмазанная глиной и крытая соломой. Хибарку в одну комнату занял взвод охраны — десяток ребят, несших караульную службу. В доме, в комнате с дощатым полом, разместился штаб отряда — четыре-пять человек. Хозяин, дядя Радивое, перебрался в каморку, куда едва втиснули кровать, а в третьей комнате, небеленой и с земляным полом, расположились у огня все остальные домочадцы: два хозяйских сына с женами и пятью детьми, их дядя — он вскоре ушел в отряд — и четверо его детей, из которых старшей была Йоша; иногда здесь ночевал и какой-нибудь прохожий или партизанский связной, застигнутый непогодой.
В Кривошиях дочерьми не особенно дорожат, их почти не считают членами семьи. На дочерях «дом не держится», да и замуж их выдать нелегко — кривошийские парни испокон веку охотнее женились на более красивых бокельках. Девочку редко отдавали в школу, а если и отдавали, то на один-два года, только чтобы выучилась читать по складам. Наравне с мальчиками она пасла скот, а кроме того, помогала по хозяйству. Если девушка была поприглядней, она шестнадцати-семнадцати лет выходила замуж; если же ей эта удача не выпадала — оставалась дома, чтобы весь свой век выполнять самую тяжелую и грязную работу и быть при этом каждому в тягость.
В то время, когда отряд появился в Еловом Долу, на Йошиной обязанности лежало подоить утром коров и задать им корм, а потом выгнать овец на пастбище в горы, в защищенные от ветра места, где снег еще не совсем покрыл землю. В сумке у нее было немного еды: кусок пирога и твердого сыру. Возвращалась она уже в сумерках, продрогшая до костей, с заиндевелыми волосами, в обледеневшей одежде. Загнав овец в хлев, она снова доила коров, давала им сена, приносила воды из родника, притаскивала в дом дрова и садилась чистить картошку. Йоша кончила всего два класса начальной школы, забыла все, что учила, и была почти неграмотной.
Она никогда не спускалась в Рисан и вообще не бывала ни в одном городе. Никогда не видела железной дороги — о радио и кино нечего и говорить, — никогда не сидела в автомобиле, а пароход видела только издалека, когда гоняла с отцом овец на Убальскую гору. Люди, которых она обычно встречала, были крестьяне из окрестных сел или солдаты из казармы в Црквицах, а то какой-нибудь жандарм или скототорговец из Рисана. Итальянцев-оккупантов она два или три раза наблюдала издали, когда их патрули проходили по нижним селам. Они заходили и в Еловый Дол, но Йоша в это время была на пастбище, а когда они однажды заявились в воскресенье, чтобы забрать нескольких овец, она побежала за ними следом, ругая их и крича. Она хватала овец за шерсть, подталкивала их к дому и боролась с итальянцами, пока один из солдат не свалил ее ударом приклада в снег.
С некоторого времени в доме начали поговаривать об отряде. Когда он наконец появился в Еловом Долу, дядя Радивое вышел навстречу с бутылкой ракии, произнес здравицу, помянул геройство старых кривошиян и пожелал отряду боевой удачи. Но Йоша, несмотря на это, сохраняла об отряде, а особенно о взводе охраны и штабе, которые остались в Долу, разместившись в доме и хибарке, собственное мнение. Она вообще не любила видеть около дома чужих — от них никогда добра не бывало, — будь то торговцы, сборщики налогов, жандармы или солдаты. Она их избегала, и в то же время ее тянуло поглядеть на них, послушать их разговоры. Когда новые люди появлялись в Долу, она стояла в сторонке, заложив руки за спину, молчаливая и насупленная, не отвечая на вопросы, но прислушиваясь к разговорам, и каждое слово врезалось в ее память. Если кто-нибудь взглядывал на нее, она отводила глаза, продолжая следить за каждым движением, а если к ней приближались, хотя бы случайно, тихо и осторожно отодвигалась, держась на таком расстоянии от людей, чтобы можно было все видеть и слышать, а в случае надобности — убежать.
Так же она вела себя в первые дни и с отрядом. Правда, товарищей из штаба и тех десяти, поселившихся в отцовской хибаре, казалось ей, можно бы и не бояться, но опять-таки, кто знает — люди посторонние, чужаки, еще принесут в дом какую беду. Во всяком случае, добра от чужих она ждать не могла. Уже теперь их вытеснили из хибары, в лощине беспощадно валили буки и в дедовом доме стеснили всех так, что Йоше первой — известное дело — пришлось в этакий холод спать в хлеву на сене. Кроме того, картошку из подпола доставали и для них — ей чудилось, что подпол пустеет с невиданной быстротой; кукурузу мололи и варили и для них, коров доили и для них, и Йоша начала опасаться за скотину. Нижние кривошийские села тоже снабжали партизан продовольствием, но Йоше казалось, что ее семья дает больше других — и харчей, и дров, и жилья. И раньше в доме еды едва хватало, а теперь вот еще прибавилось пятнадцать ртов.
Правда, была от них и кое-какая польза: итальянцы, которые раньше то и дело шлялись по селам в поисках картошки и сала, перестали высовывать нос из казармы и прятались за своими укреплениями, как только приближался отряд. Стреляли теперь чаще, но Йоша считала, что стреляют далеко, и потому смело гоняла овец в такие места, куда раньше ходить не отваживалась.
Когда выпал снег, она стала кормить скот на гумне, перед хибаркой, и понемногу начала привыкать к ее новым обитателям. Здесь, в хибаре, среди прочих было двое крестьян из Верхних Кривоший, оба высокие, худые и молчаливые; другие трое — из сел с той стороны горы; одного она знала и прежде — с этими ей было легче. Остальные четверо были бокели, приморцы, живые, ловкие ребята, минуты не сидевшие спокойно. Один из них, выполнявший обязанности повара и потому быстро растолстевший, не ходил в караулы, и Йоша встречала его чаще других, когда задавала овцам корм или отправлялась за водой. Когда у него не было дела, повар Никола выходил на порог хибарки в майке с короткими рукавами, подбоченивался, сдвигал шапку на затылок и махал Йоше рукой или шутил с ней, если она проходила мимо. Иногда он помогал ей доставать воду из родника, а то колол дрова и сам носил их в дом; когда родник иссяк, она ему показала другой — так между ними установилось некое молчаливое сотрудничество. Никола помогал задавать корм скотине, загонял овец в хлев, а она отвечала ему гораздо скупее и сдержаннее, только краткими советами, а то и вовсе лишь кивком головы. Тем не менее во взводе уже знали Йошу.
С товарищами из штаба было сложнее. Все пятеро незнакомые, все городские, из Боки, серьезные, даже хмурые люди, всегда запятые. Постоянно они куда-то уходили, а возвращаясь, тотчас закрывались в своей комнате. Входить туда было нельзя. Там всю ночь горел свет, слышался громкий разговор, похожий на спор, и что-то дробно стучало; женщины, прибиравшие в комнате, объясняли, что это стучит какая-то машина, на которой тот, очкастый, «печатает буквы». В комнате неизменно находился кто-нибудь из штаба, никогда она не оставалась пустой; окно, по наблюдениям Йоши, открывали всего два-три раза, и то ненадолго. В эту комнату заходили бойцы из батальона, стоявшего в Нижних Кривошиях, заходили и некоторые крестьяне и целыми вечерами там о чем-то разговаривали. Иногда усаживались и в большой комнате у огня. Йоша, если урывала свободную минутку, забивалась куда-нибудь в уголок и слушала — не все ей было понятно, но от нее не укрылось то внимание, с которым крестьяне и дед ловили каждое слово, сказанное кем-либо из штабных.