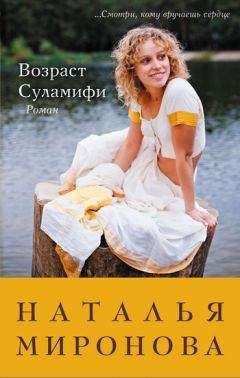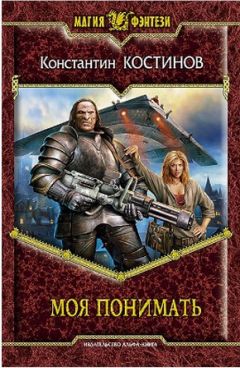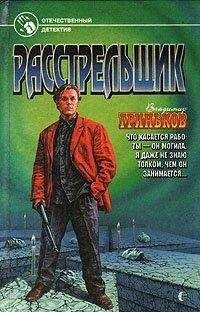Владимир Костин - Годовое кольцо
А третий решительно настаивал: — Нельзя, недопустимо ограничиваться одними экономическими требованиями. Это фактический оппортунизм, капитулянтство!
И, конечно, нашелся среди них непременный молчун, что старался не встретиться с чьим-либо взглядом и выжидал, чтобы примкнуть к победившей стороне. Но я бы не сказал, чтоб он был одет лучше других.
Я пришел плакать взаймы. «Отец и мати моя поидоша взаем плакати», — отвечала некогда мудрая дева Феврония несмышленому юноше, посланцу князя Петра. Это означало: родители пошли на похороны, чтобы потом пришли на похороны к ним.
У педагога моей жены умер отец, вовсе незнакомый мне человек, и она попросила через жену, чтобы я на всякий случай пришел и подставил плечо под гроб, потому что дееспособных людей может оказаться в недостатке.
— Третий этаж, налево, — ответил мне молодой человек, хотя я его ни о чем не спрашивал, а всего лишь задрал голову.
Я поднимался по узкой лестнице и думал об ее тесноте: опять придется переваливать гроб через перила, а дело это суетливое.
Дверь была открыта, квартира от порога полнилась народом. Обстановка ее вызывала глубокое человеческое сочувствие. Ничего не нажил покойник за долгую жизнь. Может быть, он ленился и пьянствовал, может быть, был честен до брезгливости — откуда мне знать? Меня тронул желтенький отрывной календарик в прихожей. «29 февраля 2002 года». «День Касьяна Остудного».
«Касьян на что ни взглянет — все вянет.
Зинет Касьян на крестьян…»
«Жители некоторых губерний старались 29 февраля проспать до обеда, чтобы таким образом переждать самое опасное время». И т. д.
Вовремя забросил календарик хозяин, нечего сказать. Но, возможно, в этот день умерла его старушка? Откуда мне знать?
Я протиснулся к дверям в зал. Окруженный стоящими и сидящими людьми, в гробу лежал тоненький старичок. Его седые длинные брови топорщились слишком причудливо, чтоб их не попытались бы усмирить. В бровях блестел какой-то крем. Попытались, но ничего не вышло.
Я подумал о том, что нести покойного будет нетрудно. Оглядел присутствующих и внезапно убедился, что моя помощь и не нужна. Крепких, в полном смысле молодых ребят было в избытке. Все они были в цивильном, но от них упорно веяло дисциплиной, тренировками, казенной службой. Они умели стоять на месте.
Значит, следует спуститься во двор и встать у подъезда, чтобы Екатерина Сергеевна увидела меня и убедилась, что муж ученицы готов ей помочь.
Вот Екатерина Сергеевна — я помнил, что она была не в отца крупновата, мосласта, у нее были развитые плечи пианистки. Опущенное к отцу лицо спряталось под траурным платком. Она молчит, и все молчат.
Трещали свечи, с фотографии в изголовье смотрел живой, веселый старик, только что рассказавший анекдот. Она — Екатерина Сергеевна, он — Сергей Васильич. Или Владимирович? Нет-нет, Васильич.
Я передал цветы и вышел на улицу. Явились музыканты. У них был неожиданно приличный вид. Они сидели на скамейке с озабоченными лицами, трогая свои зимние шарфы, как будто забыли шопеновский марш и никак не могли его подобающе вспомнить. Их глава вполголоса сообщил, что катафалк сломался, что-то с тормозами, поэтому они пришли пешком, благо что контора неподалеку. Но тормоза починят быстро, не надо беспокоиться.
— Все нынче через задницу, — рассердился самый горячий из стариков, — похоронить по-человечески и то не дают.
— Как будто при нас не ломались, — возразил сторонник умеренной борьбы с властью, — вспомни, как в 83-м провожали Глазкова Илью Степановича, как автобус улетел в кювет и тебя же придавило гробом. Ребра, небось, до сих пор на погоду ломит.
Радикал гневно показал ему кукиш и плюнул в лужу.
От нечего делать я стал расспрашивать о покойном. И вот что я услышал.
Родом он был из первоначальной сибирской деревни, происходил от некого мужика, что взял себе в жены чулымскую киргизку и отбивался еще десять лет от ее разгневанных сородичей. Не знаю, правдоподобно ли это — так говорили старики, его земляки. Туда в известное время перегибов сослали чемпиона Советского Союза по конькам Головенкова Ивана. Головенков, живя квартирантом, заметил, что в мальчишке удачно сочетаются азарт и настойчивость. Он обучил его своей науке, и мальчик, а потом юноша прославился на всю Сибирь как непревзойденный стайер. Они тренировались на обской протоке, где Сережка однажды угодил в полынью. Спасла его верная собака по кличке Верный. С этой собакой у него сложилась такая дружба, что много позже после ее смерти он хотел назвать сына Верный, Верный Сергеевич, но родилась дочь.
Потом война, Головенков прорвался на фронт и погиб где-то под Можайском, а Сережа трудился в колхозе и забросил коньки. В 1944 году ему обварило затылок, на полевом стане. Волосы густились у него до самого исхода, но проклятый розовый пятачок портил вид, Сергей зачесывал его как мог, а после женитьбы приспособился маскировать его с помощью заколок. Заколки, конечно, выбивались на свет Божий, это производило странное впечатление на косных окружающих…
Вообще, он был чудак чудаком: в еде, в одежде, в домашней жизни. Зато вежлив, радушен необыкновенно и по бабам не бегал, найдя себе в пару неуклюжую чудачку из клуба. Она там наяривала на домре и балалайке, и он освоился, и вполне сносно. Однако на пару сыграть они не могли — начинали мастериться, ссорились. Так и выступали на застольях каждый со своим номером. Но она, Афанасьевна, играла и пела «Кареглазый мой дружок» (про него), а он — «Ты краса моя девица» (про нее). И хитро поглядывали друг на друга.
Последний его фокус: как понял, что уходит, купил им, пятерым своим друзьям с молодечества, дорогие портсигары (а сам-то не курил) и заказал граверу забавные надписи. Растроганные старики предъявили портсигары: «Иван! Не в этом дело!», «Руслан! Где твоя Людмила!». «Виктор! Не рой погреба другому!», «Семен! Сиди дома, точи хлеб!». Эти пожелания, понятно, были связаны с конкретными обстоятельствами, в них шифровались истории длиной, возможно, в десять лет. Но последняя надпись меня заинтриговала особенно: «Николай! Сидит химик на бульваре, долбит фенькой по гитаре. Химия, химия, вся игрушка синяя!». — Это он намекает, что я матерщинник, — объяснил старик, тот самый, что отмалчивался.
Тут я от души рассмеялся, зная, что старики на меня не обидятся.
Подъехал катафалк.
— Ты нас не перевернешь? — спросили старики у надменного водителя, вынимающего из уха серьгу. Он хотел оскорбиться, но заметил квадратного гиганта и буркнул: — Не переверну. Скоро там?
Работал на совесть, ничего ни для кого не жалел, выручал. Начальства остерегался, как капитан Тушин. Но мог взорваться, вспылить, оказавшись напротив неправды. Тут он забывал осторожность и наживал большие неприятности.
Он уже отучился, обжился в городе, преподавал физкультуру в университете, когда ввели советские войска в Чехословакию. Он возьми и брякни на политинформации, в присутствии доцента-капээсэсника Воронина: зачем, мол, мешать людям — они ж работяги, ищут лучшей жизни, не то что мы. Да кто ты такой? и тому подобное. На партком его — а он стоит на своем, не кается.
— Мы-то его не одобрили и сейчас не одобряем, в свете последних событий с этим ПРО, — сказали старики, — но уважаем, что он гвоздь и по сути остался коммунистом.
Его выперли, но разрешили работать смотрителем университетского стадиона. А он был счастлив, говорил, что нашел себя. Ему нравилось работать на свежем воздухе, нравилось возиться с газоном, нравилось, что вокруг молодежь. Сам сухой, маленький, но уже крепко в возрасте, а ручищи как чугунные ухваты, ни один из студентов не мог уложить его руку на стол, как ни пукали… А многие приходили специально, просились на поединок. А он всегда соглашался, потому что проигравшие должны были копать землю, поливать траву.
Обманчивая у него была внешность. На него на какой-то велогонке нарвался хулиган. Пьяный, сел за руль, возмущался, что Викентьич перегородил трассу (получается, не Васильич — Викентьич!). Кричит: я тебя, сморчок, раздавлю! Викентьич свалил его в нокаут одним ударом в ухо.
Там, у дамбы, за стадионом Викентьич подобрал брошенного вороненка, выходил его, откормил. Из года в год наблюдали такую картину: Викентьич едет на велосипеде на стадион. В любую погоду без шапки, а летом в одной майке, черный от загара, как битум, — и этот Каркуша планирует с тополя, встречает его, садится ему на плечо, роется клювом в волосах, вроде бы целует.
Не думали друзья, что он уйдет первым. Он нас склеивал, без него помирать страшно. Разве что встретит он нас там чин чином и забьет хорошее местечко.
А любимая присказка у него была такая: «Слишком я добрый, чтобы быть умным, слишком я умный, чтобы быть добрым». Уважал диалектику!
Житие какое-то, подумал я. Жалуемся, что люди опустели и обозлились, что не на ком глаз остановить, а на самом деле не умеем различать людей, и не хотим, скорей всего — невыгодно. Почему же я о тебе никогда не слышал, почему мы не познакомились, милый человек? И вдруг через тысячу километров как будто отозвался ревниво Иван Прохорович: зато ты со мной знаком, мальчишка, мало тебе этого? Каждому по заслугам. А тебе и больше того. И мне почему-то стало стыдно перед подаренным судьбой старым другом, вторым моим отцом, и захотелось попить с ним чаю.